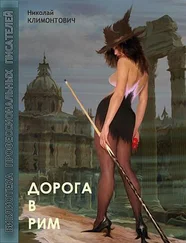Больничный двор, куда нас выводили гулять, был обнесен высокой кирпичной стеной, совсем тюремной, разве что без колючки поверху.
Стена была необходима, поскольку больница эта была посвящена излечению кожных заболеваний. И совершенно логично, что стеной она была обнесена для отгораживания от внешнего, здорового, мира.
Но не только этой цели служила стена. Дело в том, что за оградой нашего учреждения помещалось другое, смежного профиля, а именно – женская венерологическая лечебница. Так что стена у нас и у сифилитичек была одна, что некогда позволило устроителям этого оазиса народного здравоохранения чуть сэкономить на стройматериалах и землеотводе.
Если наш двор был гол, только чахлые кустики и редкая трава, то у сифилитичек во дворе росли два замечательных тополя с обрубленными ветвями. Это был факт, значение которого выходило за рамки чисто ланд- шафтные. Дело в том, что после отбоя, когда врачи покидали стены учреждения, а нянечка запирала нашу палату на ключ, все наше население бросалось к окнам, стремясь занять место на подоконнике и поудобней устроиться на животе – по понятной предусмотрительности начальства окна именно детского отделения смотрели на смежное учреждение.
Темнело поздно, и все было отлично видно. Именно в это предвечернее время на тополях появлялись гроздья онанистов. А сифилитички устраивали для них стриптиз. Наверное, сифилитички видели и нашу детвору, но главными зрителями для них, конечно, были гнездовавшиеся на тополях, среди которых преобладали взрослые мужики. Нам с Мишкой тоже хотелось бы взглянуть, хотя суть дела для нас оставалась смутна. Но нас, конечно, к окнам не подпускали.
У всякого представления бывает финал, хотя бы потому, что августовское небо, наконец, наливалось темнотой, и проступали звезды. Летуч заваливался на койку – он занимал, разумеется, самое почетное место, у окна, и начинал петь. Репертуар у него был небогат, и кое-что из него я до сих пор помню, благо позже эти жестокие романсы стали классикой. Это были, разумеется, Из-за пары распущенных кос, Девушка из Нагасаки, В нашу гавань заходили корабли , но самая ударная была ухарская плясовая У них походочка, что в море лодочка …
Летуч требовал, чтобы все без исключения подпевали. Даже Мишка, даже я. Через неделю лечения я знал этот репертуар наизусть и подпевал, стараясь. Странное дело, но я ощущал гордость за то, что посредством хорового пения оказывался принят в компанию этих храбрых больших ребят, которые в предночный час казались мне теми самыми моряками, которые из-за пары распущенных кос : так лихи они были, так красивы в своей нахальной и наивной грубости.
И вот в один из этих прекрасных августовских вечеров, когда окна были открыты настежь, когда сифилитички напротив, угомонившись, тоже пели что-то жалостливое, тюремное, когда и наша палата дружно горланила что есть мочи, дверь распахнулась. Все мигом затихли, но я от старательности еще продолжал фистулить.
Это был ночной обход. Такие совершались не чаще раза в месяц. Вошел главный врач в халате, с ним пара молодых врачей и какой-то дядька, у которого халат был лишь наброшен на плечи. И поскольку моя кровать была ближе других к двери, то вся компания остановилась надо мной. Я пел:
А потом мне она изменила
И куда-то умчалася с другим.
Что поделаешь, милая мама,
Коль сын твой остался один!
Конечно, когда я обнаружил высоких слушателей, то затих, но тот, в наброшенном халате, сказал с улыбкой: ты пой, пой, хоть и даешь ты петуха… И вся палата весело заржала. Я же испуганно и послушно запел опять:
Часто ее образ вспоминается,
Вижу ее карие глаза,
Вижу я ее, с другим она шатается,
Бросила, покинула меня.
Комиссия реагировала живо – сначала пофыркивал лишь тот, в накинутом халате, за ним остальные. Я продолжал, будто завороженный:
Помню ночку темную осеннюю,
С неба мелко дождик моросил,
Шел с тобой я пьяный, похудевший,
Тихо пел и все о ней грустил.
И с нарастающим от страха энтузиазмом:
В переулке пара повстречалася,
Не поверю я своим глазам,
Шла она, к другому прижималася,
И уста скользили по устам…
Тут врачи уже покатывались с хохоту, толкая друг друга локтями. Я, польщенный успехом, продолжал с некоторым неистовством победителя:
Из кармана вынул я наган,
И ударил я свою зазнобушку,
И потом не помнил, как бежал.
Когда я дошел до труп ее упал к моим ногам , тот, в наброшенном халате, уже рыдал, держась за сотрясавшуюся грудь. Веселились, разумеется, и мои сокамерники. Наконец, главный из комиссии, утирая слезы, рявкнул: молчать ! Палата мигом затихла.
Читать дальше