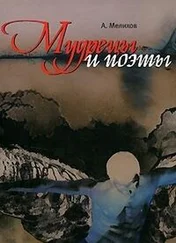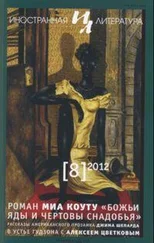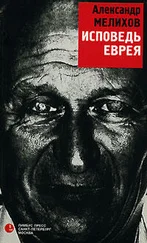Когда первый воевода Белого царя добрался до наших десяти Франций со своей ли ратью-силою великою, со чугунными-то пушками-пищалями, он получил крепкий урок: наш автохтонный богатырь Отур смял пушки в кулаке, как глину, а когда казаки принялись палить в него из пищалей, он лишь хохотал: “Хватит меня щекотать – не то осерчаю по-настоящему!” И осерчал: ухватил великана воеводу за ноги да как начал воеводою помахивать, влево махнет – казаки соснами валятся, вправо махнет – кедровыми шишками раскатываются. Бросились казаки бежать и бежали до самой Москвы, а мамины гордые предки (что я говорю – и мои, мои же!) тоже хотели было за ними двинуться, только мудрый старец Мер-Сисне-Хом их удержал: русские-де тоже потомки медведя, а потому не надо добивать родичей в их собственной берлоге.
Лишь один непокорный юнец по имени Сукпай погнался за русскими в одиночку да и угодил им в плен. Привели его, связанного, пред очи
Белого царя, чтобы отсечь ему буйну голову, а он внезапно откусил у палача пуговицу да с такой силой плюнул ею в сторону царя, что уложил его наповал. Русские перепугались и отпустили юного героя, и после уже ни один Белый царь не смел в наши края и носу показать.
Только Ленин наконец на это решился, но он уже был трусоват и воевать не отважился, наоборот – сам начал платить победителям ясак: принялся строить для них дома, школы, больницы, прокладывать дороги,
– и перехитрил-таки простодушных охотников, пастухов и рыболовов – зачаровал самых доверчивых новыми сказками. И восемнадцатилетний будущий отец моей мамы, чья стрела летела выше облака ходячего и на излете без промаха била в глаз белку-соболя, покинул свой роскошный четырехслойный чум и отправился в Институт народов Севера.
//
/Малых/ народов Севера. Не понимая, что признать себя малыми для народов означает почти немедленную смерть. Которую он и принес в наши десять Франций. Хотя вряд ли маминому (моему?) народу помогло, если бы это заведение назвали Институтом великих народов Севера.
Обновление фантомов почти всегда означает гибель народа, а ведь мой дед грезил даже не об обновлении, но о присоединении к /чужим/ сказкам – к свету большевизма, к свету цивилизации… Он-то и приспособил латинский алфавит к языку своих пращуров, чтобы к двадцатилетнему юбилею революции быть расстрелянным в процессе унификации государственных химер.
Уложить своего палача пуговицей он не сумел, не сумел он и прикрыть собою свою ленинградскую спутницу жизни, вместе с ним отправившуюся в тайгу вести народ своего возлюбленного к свету, то есть к исчезновению, словно бы предварив его своею собственной судьбой. Но их дочь, моя мама, подхватила выпавшее знамя: она целые десятилетия отдала тому, чтобы разыскивать у костров и выводить к электрическому свету наиболее одаренных мальчишек и девчонок своего полудикого племени. В благостные минуты, уже пребывая на пенсии, она могла долго перечислять имена маленьких дикарей, которых она вывела в инженеры, врачи и даже писатели – Жучков и Лопаткин, ежели слышали.
Ну а поэта Мандакова вы наверняка знаете. Так моя мама и приближалась к окончанию земного бытия с ясным чувством не напрасно прожитой жизни, уверенно ощущая себя /кем-то,/ пока однажды ей вдруг не открылось, что она всю свою жизнь отнимала у собственного народа лучших, чтобы подарить русскому народу заурядных – заурядных инженеров, заурядных врачей, более чем заурядных писателей и жуликоватых поэтов…
Отдать жизнь тому, чтобы перерабатывать исключительность в обыкновенность… Но, как всегда, добила ее не абстрактная формула, а телесный образ. Я даже помню, как это было. Отдельные представители малых народов Севера изредка забредали в наш леспромхоз, немногие воспитанные люди называли их, не вдаваясь в подробности, нацменами, а остальные – чурбаками. В них все было потешно: и то, что они не отгоняют комаров, опасаясь рассердить пославшего тех злого духа, и то, что они никогда никуда не торопятся…
Один наш шоферюга катил по зимнему /усу/ в лесхоз – и вдруг из сугроба вылезает чурбак в малице: “Когда, однако, обратно поедешь?”
Через три дня, отвечает шоферюга. “Однако скоро”. И впрямь через три дня на этом самом месте… Может быть, это был один из тех, кто забредал к нам в резиновых сапогах, пытаясь продать расшитые бисером оленьи бурки: “Поурки, поурки!..” Они всегда просили за пару две бутылки водки, но неизменно довольствовались одной, и я так же неизменно испытывал облегчение, когда они снова исчезали с глаз долой, из сердца вон, а то как бы кто не вспомнил и о моем родстве с этими чучелами, – хватит с меня и того, что у меня папа еврей.
Читать дальше