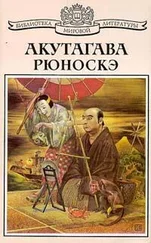– Костя, тебя хотят, – сказал Гурам.
Костя оглянулся. Цыганка поманила его пальцем.
– Меня? – спросил он, глупо улыбаясь.
– Тебя, сокол, тебя!
Чувствуя себя дураком, Костя поднялся, зацепил ногой за ножку стула, чуть не растянулся, двинулся к цыганке. Не зная, что говорить, спросил:
– Погадать мне хотите?
– Погадать, погадать, – ответила цыганка деловым голосом.
Они зашли за куст.
– Что-то я вас не понимаю, – начал Костя.
– Позже поймешь. Лет через пятьдесят, – роясь в клеенчатой сумке, ответила цыганка. Она вытянула помятый журнал, в котором Костя узнал популярную польскую “Пшиязнь”. На обложке красовалась какая-то эффектная блондинка с несколько раскосыми глазами.
– На твою жену очень похожа.
– Чью жену? – вдруг разволновался Костя.
– Твою.
– Ха, и где же она живет, эта моя жена?
– Она здесь давно не живет. Там она живет.
И цыганка стала тыкать коричневым пальцем в небо. Костя со страхом таращился на сумасшедшую.
– Вы меня с кем-то спутали. Как меня звать? – совсем протрезвел Костя.
– Константин Николаевич, – улыбнулась цыганка и назвала Костину фамилию. – Еле тебя отыскала. – Она дотронулась вдруг до кончика его носа и добавила: – Непутевый.
У Кости даже рот приоткрылся. Он силился разглядеть в цыганке нечто потустороннее. Смуглое лицо, пестрый платок с узлом на виске, большие серьги, монисто из нанизанных на шнурок монет. Дальше какие-то пятна: зеленое, красное, черное – цыганка как цыганка.
Вдруг она повернулась и пошла сквозь кусты к обрыву. Остановилась, обернулась и погрозила пальцем:
– Поменьше бы тут шалил. Очень она огорчается.
И продолжала свой путь. Костя сорвался с места – и за ней:
– Стойте, тут обрыв!
Ломая ветки, он достиг обрыва, но никакой цыганки не увидел.
Возникшая от неприятного сна тревога немного утихла. Выбрав из пачки украденных меню книжечку с золотым тиснением “Савой”, Костя уселся завтракать. Он почитывал названия блюд и тянул чаек из большой синей кружки с желтым именем “КОСТЯ”. Холодильник был пуст, но это было кстати: вчерашние перегрузки не давали проснуться аппетиту.
– Акантология! – ни к селу ни к городу громко произнес Костя. Он обожал произносить вычитанные из словарей мудреные слова. И так же громко, как иногда разговаривают сами с собой одиноко живущие, себе же разъяснил: – Это, сударь, острословие, едкая насмешка или остроумное выражение. А вы, мон шер, что подумали?
Захлопнув меню, встал, потянулся и пошел к двери. Подхватил кейс и плащ, затворил за собою дверь с висящей на ней картонкой с корявой надписью: “Оташла на 15 мин.”.
Дверные створки трамвая лязгнули перед носом.
– Открой! – помахал Костя водителю.
Тощий водитель поднял подбородок, отвернулся и тронул трамвай.
– Акефал хренов! – разозлился Костя и ударил кулаком по отъезжающему вагону.
– Извините мою назойливость, молодой человек, – прикоснулся к
Костиному рукаву интеллигентный старичок в панаме; внешний вид старичка говорил о нем как о несчастном, коему не нашлось местечка на последних отплывающих из Новороссийска к турецким берегам транспортах барона Врангеля, – кем вы окрестили этого малосимпатичного вагоновожатого?
– Безголовым недоноском назвал я этого гнусного водителя конки, ваше степенство! – отрапортовал Костя.
– Благодарю вас, – просиял старичок и, приподняв панаму, поклонился.
Просиявший старичок, пока не подошел следующий трамвай, все покачивал головкой, а Костя, поглядывая на старичка косвенным взглядом, как бы про себя напевал: “Боже, царя храни!”
Привратником в киностудии служил бритый наголо великан преклонного возраста. На войне его сильно контузило, и оттого он имел странности, например, умел спать с открытыми глазами. И вот он сидит за своей конторкой и куда-то смотрит, будто думу думает. Так можно бы предположить, если бы он не всхрапывал. Его звали Мокеем. Он, как апостол Петр пред райскими вратами, ведал ключами от студийных помещений.
Костя вошел и тихонько взял висящий на деревянной груше ключ. Мокей всхрапнул, глаза его ожили.
– А? – встрепенулся он.
– Ты, Мокей, главное дело, дрыхни дальше, – ответил на ходу Костя.
– Кто дрыхнет-то? – не согласился Мокей.
– Кто, кто, – крикнул удалявшийся Костя, – Жан Кокто!
“Кокто, вишь ты”, – подумал Мокей, и глаза его подернулись пленкой равнодушия к окружающему.
Однажды Мокей с ломом на плече без стука вошел в кабинет директора и заявил:
Читать дальше