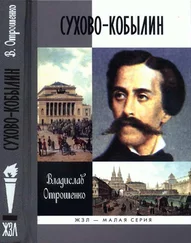В башенке у Трони, в круглой каменной комнате, где едва помещались табуретка и стол (на нем Троня спал), я был много раз. Мне нравилось сидеть там среди ясного жаркого дня в полумраке и смотреть на улицу через узкие – шириной в две ладони
– окна без стекол. Все отсюда выглядело иначе. Все казалось далеким, неузнаваемым и вместе с тем необыкновенно отчетливым, словно я смотрел с обратной стороны в телескоп, пользуясь его подспудной, удаляющей силой. Даже бабушкин дом представлялся мне незнакомым, оттого что он виделся весь целиком в ярком и плотном свете, сдавленном глубокими оконными проемами. Чем дольше я смотрел сквозь них на улицу, тем неподвижней становился мой взгляд, равномерно рассеиваясь на всех предметах – и дальних, и ближних. Предметы сначала теряли свою отчетливость, потом раздельность; потом превращались в сплошную пеструю пелену. А вслед за этим во мне поселялось странное состояние, которому невозможно было сопротивляться в силу его чужеродности. Оно как будто бы не принадлежало мне; оно наплывало на меня со стороны, извне, вытесняя мое “ я”; не я, а какое-то совершенно бездумное и бесформенное существо, вдруг завладевшее моим зрением, смотрело из башенки и наслаждалось этим свойственным для него состоянием, в котором соединялись одновременно и упоительное оцепенение, и радостная завороженность, и обморочное безразличие ко всему, что происходит перед глазами, на улице, в округе, за толстыми стенами башенки, в башенке – где бы то ни было. Мне не то чтобы не хотелось крикнуть незнакомому велосипедисту, который быстро и беззвучно катился по улице, по травяной кромке вдоль мостовой, что он – вот сейчас – упадет в глубокую яму (обросшую по краям высокой лебедой и потому для него не заметную); я просто не в силах был этого сделать: я мог только наблюдать – без сочувствия, без насмешки и даже без любопытства, – как он падает; как исчезают с поверхности земли переднее колесо, хромированный руль, сгорбленная спина, а потом и заднее колесо, сверкнувшее напоследок спицами. Мне было вовсе не обидно, что
Родя лежит в нашем палисаднике и, запрокинув голову на ладони
(делая вид, что спит), подглядывает за нашей Заирой, которая теперь собирает сливы в кастрюлю, забравшись в цветастой юбке на дерево и широко расставив ноги на ветках прямо над Родиной головой. Я не испытывал горячечного азарта, увидев, что на улице вдруг появился, вывернув из-за угла спуска Разина, долгожданный старьевщик в обвислой шляпе, запряженный вместо коня в разрисованную арбу: ему можно было принести теперь любую дрянь, хотя бы и поломанный бабушкин веер, который она прятала в горке среди посуды, и взамен получить губную гармошку, глиняную свистульку или даже перочинный нож. Но я и не думал бежать за веером. В эти минуты я вообще не мог о чем-либо думать, в чем-либо участвовать действием или мыслью, чего-либо хотеть или не хотеть. Моя воля, словно испорченный оптический прибор, из которого нельзя извлечь искомую резкость, не настраивалась ни на какое событие в окрестном мире. Заира, старьевщик, Родя, проворный велосипедист, блестящий темно-зеленый жук на каменном подоконнике в башенке, печные трубы на отдаленных крышах, макушки пирамидальных тополей на нижних улицах – все это я видел одновременно и в то же время не видел ничего. Мир не воздействовал на мои чувства; я даже не осознавал в эти минуты, что мир существует и что я существую в нем. Это была какая-то особая форма небытия, возникавшая по недоразумению – от чрезмерной рассеянности взгляда – в недрах самой жизни.
Почему-то именно в Трониной башенке мой взгляд заражался этой мертвящей и блаженной рассеянностью. Иногда, конечно, случалось, что и вдали от башенки, например, на террасе за летним обедом, когда Ангелина разливала дымящийся суп по тарелкам (обедами на террасе всегда распоряжалась она, а не бабушка Анна), меня вдруг охватывало точно такое же состояние. Но длиться долго оно не могло. “Засмотрелся! – тут же говорила Ангелина, словно уличая меня в чем-то опасном или вредном. – Ну-ка очнись! – приказывала она. – Немедленно! Слышишь? ” Я машинально кивал в ответ, хотя слышал одни только звуки, а не сами слова, составленные из них, и, кивая, продолжал смотреть куда-то в никуда – в глубину туманного разноцветного кома. И тогда Ангелина, утопив в бокастой фарфоровой супнице тяжелый половник, принималась махать освободившейся ладонью перед моими глазами с такой же заботливой энергичностью, с какой растирают обмороженные щеки. И делала она это до тех пор, пока глаза мои – вместе с чувствами и мыслями – не начинали двигаться, схватывая предметы в их привычном, раздельном и ясном, виде. После чего Ангелина строго объясняла мне, что так засматриваться нельзя, что от такого засматривания можно нечаянно ослепнуть, можно даже незаметно умереть.
Читать дальше