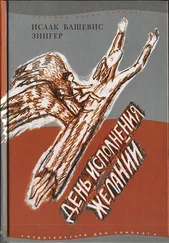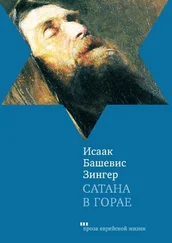Стало тихо. Кася замерла.
— Люциан! Это ты! — сказала она, еле шевеля губами.
— Я.
— Господи!
Кася сделала движение, будто хотела перекреститься, но рука на секунду замерла в воздухе и опустилась.
— Да, это я, — повторил Люциан, не зная, как продолжить разговор, куда заведут слова. — Как видишь, жив.
— Когда ты вышел? Тебе же еще год оставалось…
— По амнистии.
— Амнистия? Понятно…
— Ну, как ты? Как Болек?
— Большой совсем, в школу ходит. Каждый день, кроме воскресенья.
— Каждый день, говоришь? Ну а что еще? Ты швеей стала?
— Да, швеей.
— Да не дрожи, не собираюсь я тебя убивать. У меня и оружия-то никакого нет.
Он сам не ожидал, что такое скажет. Кася стояла перед ним бледная, открыв рот и растерянно качая головой.
— Ты так меня напугал!
— Видно, у тебя совесть нечиста, раз боишься.
Она не ответила. Еще бы, она и слова-то такого не знает.
— А ты хорошо выглядишь. Красивый, нарядный!
— Наверно, не такой нарядный, как тот старый дед, Щигальский, — вырвалось у Люциана.
Кася отшатнулась, ее лицо снова стало серьезным, взгляд напряженным.
— Мне домой надо.
— Куда спешишь? Он тебя ждет?
— Купила вот кое-что.
— Что купила?
— Нитки.
— Нитки? Не трясись, ничего я тебе не сделаю. Пусть я убийца, но я человек не злой. Одного хочу: чтобы ты мне правду сказала.
Кася сглотнула слюну.
— Хорошо.
— Как ты пошла на такое? — еле слышно спросил Люциан. — Эта старая коза тебя заставила или ты сама?
Кася обернулась по сторонам.
— Не надо здесь, на улице.
— Надо, надо. Отвечай!
— Так вышло. Тебя забрали, и мы одни остались, как сироты.
— Кто это мы? Ты и эта падаль?
— Мы все. И тут он появился. Старенький, добрый… Подарки приносил: колбаски, водочки, того, сего. Мы думали, ты оттуда живым не вернешься.
— Продолжай.
— А тут он, такой веселый, шутит все время. Помочь обещал и ребеночку, и нам.
— И что дальше?
— И всё.
— Как вы это делаете? Втроем в одной постели?
— Боже упаси!
— А как?
— Никак.
— Правду говори!
— Он ведь старый очень, лет семьдесят. Только погладит, поцелует, ущипнет слегка. Ему с кем-то поговорить хочется, у него так на душе тяжело…
— Почему это тяжело?
— Да мало ли почему. Его из театра выгнали, из того, большого. Он аж запил с горя. А с Бобровской они давно в дружбе, сколько лет. Она его кума, как говорится. И…
— И что?
— Ничего.
— Ты любишь его?
Кася промолчала.
— Отвечай! Тебя спрашиваю!
— Нет. Да. Он как добрый дедушка. И для ребенка, и для всех. Войдет и давай палочкой махать. Не чтобы ударить кого, а так, в шутку, для смеху. И сразу в карман лезет: тому подарочек, этому подарочек. Именины там, день рождения. Платит за нас. К столу присядет, как свой. И говорит так по-простому, забудешь даже, что шляхтич.
— Какой, к черту, шляхтич? Ну, и что еще?
— И всё.
— А это самое с вами обеими?
— Когда как.
— Совсем, значит, стыд потеряла?
— Да нет же, что ты! Я не поняла, про что ты говоришь.
— Все ты поняла. Я бы тебя мог на месте голыми руками задушить, но не хочу. Одного хочу: знать правду.
— Так я же и сказала тебе правду.
— Ты была беременна от него?
— Беременна? Нет.
— А меня совсем забыла?
— Ей-богу, не забыла! Каждый день о тебе думала. Свечку ставила святому Миколаю. Мы знали, тебе еще не один год сидеть, а тут времена плохие, голод, холод. И люди судачат, пальцем показывают. Кто-то в газете написал. А женщины новых платьев не шьют, старые жакеты сами перелицовывают. Бобровская иглой укололась, палец стал гнить. Фельдшер сказал, отрезать придется. А тут он появился, добрый человек, к доктору ее отвел. Тот мазь выписал, сразу и полегчало. Болека в школу устроил, тетрадки купил, перья, пенал, с учителем поговорил. Там, сям три рубля надо — пожалуйста. Он теперь не зарабатывает, но в прежние годы скопил. Всегда поможет, хоть и старенький…
— Так. Что еще?
— Всё.
— Он сейчас здесь?
— Здесь? Да, наверное. Должен был прийти.
— Пойдем. Посмотрю на него.
— Ты только драки не устрой или еще чего такого.
— Какая драка? Да я, если б захотел, раздавил бы его как клопа. И вас заодно. Но не буду. Эта Бобровская всегда сукой была, сукой и осталась. А ты — дура деревенская. Глупа, как телка.
— Грех такие слова говорить.
— Давай, пошли!
Люциан распахнул дверь и увидел всё сразу: Бобровскую, Щигальского, новые вещи в доме. На окнах занавески, стены недавно покрашены, на полу дешевый ковер. В комнате было даже несколько литографий: Стефан Баторий, Ян Собеский [88] Ян III Собеский (1629–1696) — король польский и великий князь литовский.
, сцены охоты. На обитом стуле, тоже новом, сидел Щигальский. Люциан его помнил, когда-то Щигальский пристроил его статистом. Но за годы Щигальский заметно изменился. Он был толст, невысок, седые волосы пострижены в скобку. На нем был альпаковый сюртук, твердый воротничок и широкий черный шелковый галстук. На бархатном жилете с блестками — золотая цепочка. В первую секунду Люциану показалось, что он видит перед собой старую бабу: Щигальский был гладко выбрит, ни бороды, ни усов. Одутловатое лицо, двойной подбородок, шеи почти нет, густые, как мох, брови, мешки под маслеными карими глазами. Видно, Щигальский только что отпустил какую-то шутку: его морщинистое лицо было веселым, толстый живот колыхался от хохота. Бобровская и постарела, и помолодела. Она чем-то напомнила Люциану свежеиспеченную буханку хлеба. Волосы поседели, но лицо выглядело не таким изможденным, как раньше, щеки густо нарумянены. На ней был розовый домашний халат, она взбивала тесто в глиняной миске. Первым Люциана приветствовал попугай: испустил пронзительный крик и хрипло, скрипуче затараторил. Видно, узнал. Бобровская замерла с ложкой в руке и стояла, растерянно улыбаясь. Кася вошла следом за Люцианом. Щигальский резко оборвал смех и смахнул набежавшую слезу.
Читать дальше


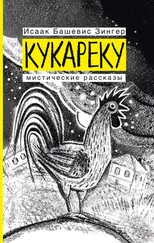

![Исаак Башевис-Зингер - Короткая пятница и другие рассказы[Сборник]](/books/148307/isaak-bashevis-thumb.webp)