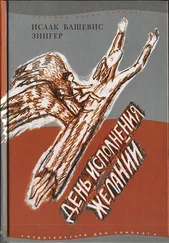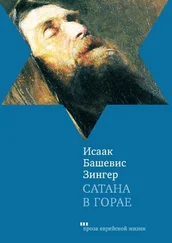Переезд в город был делом непростым. Эконома так и не нашли. Был, правда, в Топольке старик поляк, кто-то наподобие управляющего, но на него нельзя было полагаться. Ольга боялась, что за зиму весь скот зарежут или он просто передохнет. Бабы накопали картошки, но очень мало, и продать было совершенно нечего. Вложенные в поместье деньги оказались мертвым капиталом, о прибыли и речи не было. Ольга сама не понимала, как могла так ошибиться. Она во всем винила Азриэла. Кто не знает, чего хочет, тот и других всегда сбивает с толку. В других руках Тополька могла бы приносить доход, но для этого надо жить тут круглый год, а если сидеть в Варшаве и трястись над каждой копейкой, то, само собой, будут одни убытки. Ясно, что обрабатывать землю — это не для евреев. Вот если бы владельцем был доктор Иванов, уж он-то сумел бы сделать из поместья конфетку…
На другой день Ольга с детьми и одной служанкой сидели в карете. Сзади тащилась телега с вещами, за которыми присматривала другая девушка. Проезжали Закрочим. Еврейки сидели на скамьях или ступеньках и вязали чулки. В синагоге, где вчера рыдали над разрушенным Храмом, сегодня нараспев учили Талмуд. Прошел пейсатый парень с книгой под мышкой.
— Вон еврей идет, — указал на него Коля.
— Папа говорит, я тоже еврей, — отозвался Миша.
— Да, верно.
— Тогда почему у меня на висках таких завитушек нет?
— Погоди, еще вырастут, — хихикнула Наташа.
— А что значит еврей?
— Это вера такая.
— Правда, что евреи — это черти?
Наташа и Коля засмеялись. Ольга сердито посмотрела на детей.
— Неправда, Мишенька. Евреи — такие же люди, как все.
— А почему еврейских мальчиков не пускают на уроки Закона Божьего?
— Потому что у евреев другая религия.
— Какая?
— Ну, почти такая же, но немножко отличается.
— Евреи не верят в сына Божьего, — вмешался Коля. — Они убили нашего Господа.
— Разве можно убить Господа?
— А ну хватит болтать! — прикрикнула Ольга. — Незачем детям говорить о религии.
— Почему незачем?
Наташа улыбалась, но Ольга видела, что голова дочери занята другими мыслями. Наташины глаза то радостно вспыхивали, то грустнели. Ольга знала, что случилось с девушкой: она влюбилась в молодого поручика, который написал ей в альбом стишок и танцевал с ней на балу. «Что ж, это неизбежно, каждая женщина должна через это пройти», — утешала себя Ольга. Последние недели она чувствовала себя странно, у нее будто почва ушла из-под ног, все стало шатким и непрочным. В ту ночь она проснулась и долго не могла заснуть. Откуда ни возьмись появился страх: кровать — это всего лишь две доски. Запросто можно упасть. Повернешься и свалишься на пол! Ольга понимала, что это глупо, но страх становился все сильнее. Она встала и с обеих сторон приставила к кровати стулья…
Когда они приехали, Азриэла не было дома. Войдя в кабинет, Ольга сразу заметила, что со стены исчезли часы с серебряной крышкой. Значит, он больше не занимается гипнозом? Азриэл вернулся поздно. Ольга не дождалась его и легла. Хотела почитать, но глаза слипались, и она погасила торшер. Лежала в темноте, то дремала, то просыпалась. Первой вернулась Зина, потом пришел Азриэл, запер за собой дверь. Ольга слышала его шаги. Наверно, он старался ее не разбудить. Разделся в гостиной, тихо вошел в спальню и лег в постель. Ольга приподнялась.
— Это ты?
— А кто же еще? Не спишь?
— Где часы, которые в кабинете висели? — спросила Ольга после долгого молчания.
Азриэл ответил прямо: гипнотизм — это болезнь, а не лекарство. Лекарство — это свобода воли, свобода выбора. Нервные болезни — это ложная идеология, продукт отрицания души, отношения к человеку как к механизму. Азриэл говорил медленно, негромко.
— Они не спят, они притворяются, — слышала Ольга его глуховатый голос. — Комедию ломают. Так заврались, что уже не отличают правду от лжи.
— И что будешь делать? Талмудом с ними заниматься?
— Я должен начать все сначала.
— Что начать? Мы без куска хлеба останемся. Если надумал все разрушить, мне с тобой не по пути. Сразу тебе говорю.
— Ага.
— У меня дети, мне их еще вырастить надо. Да и самой пока что не девяносто лет.
— Понятно.
— Что понятно? Невозможно быть умнее всех на свете.
— Не хочу быть мошенником. Я больше не верю в этот фатализм.
— Решил с собой покончить? Что ж, дело твое. А я уж как-нибудь по-другому…
Жена Цудекла Ханеле захотела отметить Рошешоно, точь-в-точь как когда-то в родительском доме. Цудекл твердил, что ни к чему это. Никто не был на небесах и не видел, как там решается судьба человека и как трепещут ангелы, когда в книгу жизни записываются все его добрые и злые дела. Цудекл повторял, что коль скоро Ханеле сняла парик и порвала с фанатизмом, то и нечего теперь. Но Ханеле даже слушать не стала. Парик — не самая важная заповедь. У литваков даже раввинские жены ходят с непокрытой головой. А Рошешоно — это таки Рошешоно. Ханеле заплатила за место в синагоге и напекла «птичек», как называют в Варшаве праздничные халы. Она купила яблок и меда, живого карпа, моркови и винограда, чтобы сказать над ним благословение, — в общем, нашла на рынке все, что должно быть на праздничном столе в еврейском доме. Вечером после молитвы она зажгла свечи в серебряном подсвечнике — отцовском подарке на свадьбу. Раз уж решили отмечать, Цудекл пригласил дядю Азриэла. Ханеле хотела, чтобы трапеза прошла как положено. Разделили голову карпа, говоря: «Чтобы мы были во главе, а не в хвосте». Со словами: «Чтобы Ты ниспослал нам благополучный и сладкий год» — обмакнули в мед кусочки яблока. Положили в тарелки по ложке моркови: «Чтобы наших заслуг пред Тобою стало больше» [144] На идише слова «морковь» и «больше» звучат одинаково.
. Цудекл сидел во главе стола, улыбался, но иногда о чем-то задумывался. Странно было сидеть тут, в варшавской квартире, когда к отцу в Маршинов съехались тысячи хасидов. Двор полон народу, синагога не может вместить собравшихся, кажется, стены вот-вот рухнут. Дни трепета в Маршинове — это вам не шутка! Если бы он, Цудекл, не сбился с пути, то сейчас сидел бы по правую руку от отца и на него, сына ребе, пристально смотрели бы тысячи глаз. В воображении Цудекл ясно видел море меховых шапок, пейсы, бороды. С каждым годом приезжает все больше народу, а он стал просвещенцем. Все удивляются, не могут понять. А все-таки хорошо, что Ханеле решила отметить Рошешоно. Когда горят свечи и на столе свежая скатерть, в доме гораздо уютнее. Лучше сидеть за праздничным столом, чем при свете керосиновой лампы читать «Курьер варшавский» или какой-нибудь немецкий альманах. Хала, рыба и бульон напоминают о Маршинове. И с дядей Азриэлом всегда приятно поговорить. Поспорили немного о законах праздника, не всерьез, а так, чтобы показать друг другу, что не совсем их забыли. Цудекл, увлекшись, начал растягивать слова и махать руками, как меламед в хедере.
Читать дальше


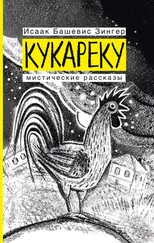

![Исаак Башевис-Зингер - Короткая пятница и другие рассказы[Сборник]](/books/148307/isaak-bashevis-thumb.webp)