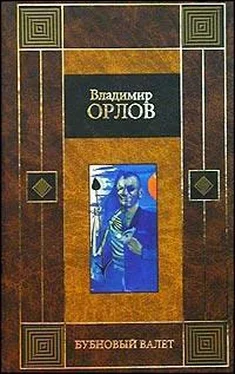Но из дома я стал выходить пораньше. Не из-за Чашкина, естественно, а именно из-за угнетавшей меня тесноты. Бродил переулками, особенно в Замоскворечье или в Зарядье, что доставляло мне удовольствие. Посиживал в библиотеках, Исторической и в нашей редакционной, старикам объяснял свои ранние уходы занятиями, мол, желаю поступить в аспирантуру. Дом в Солодовниковом переулке становился для меня лишь ночлежкой. Это было грустно, со стариками разговоры у меня случались только по выходным, за обедами и ужинами, проводить их приходилось в комнате.
О поездке в Верхотурье Марьин мне более не говорил, я ему о ней не напоминал. Марьин ходил мрачный. Второй его роман готовили к публикации в “Юности”, и по его намекам или, вернее, по его вежливостям к моему интересу я понял, что начали возникать цензурные затруднения. Герои Марьина, как и персонажи его первого романа, строили дорогу в Саянах. Но события их отрочества и детства случились в сороковые и пятидесятые годы в подмосковном городке Яхроме, хорошо Марьину известном (мимо Яхромы и шлюза с каравеллами и мы со стариками ездили на наши огороды). Так вот описания Марьиным яхромской военной и послевоенной жизни цензуру насторожили и озадачили. Марьин подходил к Глебу Аскольдовичу Ахметьеву как человеку осведомленному с вопросами о ветрах, дующих в государственных поднебесьях. Глеб Аскольдович будто бы ехидно-радостно рассмеялся и сообщил, что действительно в ветрах, интересующих Марьина, намечаются изменения и что более чернить сталинские годы никому не позволят. “Ничего я там не чернил, – ворчал Марьин, – а просто рассказал о совершенно реальных людях и случаях их жизни”.
Словом, Марьину было не до Верхотурья и путешествий тропами и реками по следам приобретателей Сибири. А я уже поглядывал в книги (в библиотеке нашей лежали почти все тома “Описания России” под редакцией Семенова-Тяньшанского) и выяснил, что за место такое – Верхотурье. Соликамский посадский человек Артемий Бабиков построил дорогу от Камы до верховьев Туры, объявленную правительственным трактом. Было это в правление последнего Рюриковича, болезного царя Федора Иоанновича. А за два года до прихода семнадцатого столетия и был заложен на холме-утесе славный град Верхотурье, с Кремлем, монастырем, Ямской слободой и главной улицей – Сибирским трактом… Выходило, что из старины в Верхотурье кое-что осталось (вроде бы даже и кремлевские башни), но все там было в куда меньшем благополучии, нежели в Соликамске и уже тем более – в Тобольске. Верхотурье манило меня. Однако перемены ветров в государственных поднебесьях, мало меня пока волновавшие, но огорчившие Марьина, требовали от меня терпения.
Раздосадованная потерей к ней интереса кавалеров (да и подвигов они ради нее не совершали), Лана Чупихина не могла удерживать в себе досады. Она то и дело выкладывала мне новости. Эта лахудра Цыганкова снова разыгрывает из себя роковую женщину, из-за которой якобы должны разбиваться сердца. И многие дураки на ее уловки, на ее червячки, на ее наживки (“Или на что там?..” – “На – ее блесну…” – глупо подсказал я. “Да какая у нее блесна!” – морщилась Лана), так вот на них дураки клюют. И ведь все приличные люди, если взглянуть со стороны. (Знала ли Лана об истории с К. В.? Наверняка знала…) И среди прочих обожателей – Глеб Аскольдович Ахметьев, маэстро Бодолин, завтрашний покоритель космоса Башкатов, пострадавший за справедливость Миханчишин, джентльмены-международники (“Дочь Корабельникова, как же!”), есть, конечно, и шелупень, стажеры всякие, но и их жалко. “Вот и ты, Василек, вляпывался, – заключала Лана. – Слава Богу, понял вовремя, во что вляпывался…” На этом я досады Чупихиной пресекал, сознавая, что через два дня они будут возобновлены.
После приключения в кабинете К. В. я несколько дней Миханчишину даже сочувствовал, даже жалел его – ведь он мог испытать унижения похлеще моих. Но по прошествии времени жалость сменилась раздражением, а потом и брезгливостью. Возвращенный из застенков Миханчишин хоть и хорохорился, но все же ходил растерянный и как бы притихший. Но вскоре он стал наглеть. Теперь он уже, видно, поверил в то, что он истинно страдалец, борец за слабых и за правду, а потому позволял себе дерзить людям порядочным, из деликатности не отвечавшим на его выходки, на обвинения их (при публике) в осторожности, а то и в трусости. Экий храбрец и вольнодумец вызревал при нашем конформизме! Меня не раз (как-то и на собрании) подмывало нечто заявить Миханчишину, да так, чтоб ему расхотелось ходить в героях. Однако благоразумие удерживало меня. Ко всему прочему охлаждали меня и соображения: а вдруг и впрямь Миханчишин – удалец, а услышанное о нем мною в кабинете К. В. – подброшенная с умыслом ложь? Или даже слуховая галлюцинация… Во всяком случае, о Миханчишине мне разумнее было помалкивать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу