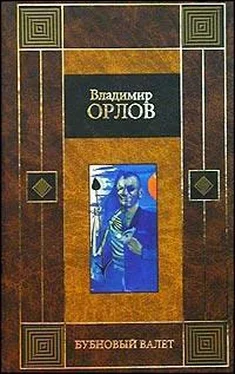Но несомненным чемпионом и рекордсменом розыгрышей в редакции считался Башкатов. И пустяшные его забавы выходили эффектно-изящными, иные из них были импровизациями, другие готовились и оснащались основательно. Мне же запомнились истории с Семлевским озером и некрологом на баснописца государственной важности. Башкатов, помимо всего прочего, был из кладоискателей и намеревался в Семлевском озере на старой Смоленской дороге обнаружить сокровища императора Наполеона. То есть сокровища, награбленные французами в Москве. По многим свидетельствам, обозы отступавших завоевателей в Семлеве ведено было облегчить, и часть московской добычи ушла на дно Семлевского озера. Там и лежит заиленная. Башкатов долго подбирался к сребру и злату допожарной Москвы, но однажды в застолье проболтался о намерениях своему приятелю Голощапову из городской молодежной газеты. А тот Башкатова подло опередил. Напечатал о семлевской легенде очерк и стал склонять публику к необходимости снарядить экспедицию. На городскую молодежку мы взирали с горной вершины, даже и вообще не взирали, то есть и не читали ее, да и зачем – Детский сад (футбольная команда, правда, у них была хорошая, с липачами, пожалуй, и покрепче нашей). Но клад-то на Семлевском озере был башкатовский, стало быть, наш, и Башкатов, конечно, не мог простить себе болтовни в застолье, а Голощапову подлость и воровство. Энергией Голощапова и Кантемировской дивизии был подготовлен к отправке в Семлево новейший вездеход-амфибия с чувствительными к металлам, благородным в частности, приборами. Башкатов с доброхотами отвезли в Семлево два стальных ящика, ночью на надувных резиновых лодках прогребли метров двадцать от берега и затопили емкости. Причем те были снабжены устройствами, позволявшими ящикам-контейнерам “с головой” уйти в ил. Один из ящиков был набит металлом – решетками и спинками кроватей, примусами, мятыми канистрами, консервными банками и пр. Во втором ящике, неплотно прикрытом, Башкатов разместил списанную на “Мосфильме” бутафорию и с “Мосфильма” же предметы гардероба исторической ленты. При первом тормошении экспедицией дна озера всплыла треуголка, расшитая якобы золотом. Консультантами она немедленно была идентифицирована как головной убор маршала Нея. Приборы кантемировского вездехода ощутили присутствие в иле большого количества драгоценного и цветного металла. Голощапов давал интервью французским и американским газетам, обещал привезти (после приведения в порядок) семлевскую коллекцию на показ в Лувр и музей Метрополитен. Излишне рассказывать о том, что произошло, когда крюки вездехода по подсказке аквалангистов выволокли из вод и грязей ящик с примусами и прогнутыми кроватными лежанками. Идея экспедиции была опорочена. Технику отозвали. Голощапова признали болтуном и авантюристом. Башкатов потирал руки. “Клад-то теперь наш! – говорил он. – Наш! И ничей другой! Год-два-три пройдут, взбаламуть уляжется, я космонавтов растормошу, технику их возьмем, все дно озера разворочаем, а клад добудем!”
Розыгрыш друзей баснописца, по словам Башкатова, вышел дурной и не было в нем никакой надобности. Тридцать первого марта гуляли на дне рождения у приятеля Башкатова Оси Герасимова. За полночь, уже воодушевленные, сообразили, что на всех наехало Первое апреля. Решили, кого можно из знакомых, тепленьких, сонных еще, понятно, не осознавших, что они теперь уже находятся на прикосновенной территории Первого апреля, разыграть. И многих замечательно разыграли. Причем чаще всего текстовиком и актером-исполнителем сидел у телефона Башкатов. Вернулись к столу, дернули празднично, в частности и за день рождения Николая Васильевича. Я знал о том застолье со слов бражничавшего там Сергея Марьина. Отдав должное Николаю Васильевичу, вспомнили: “А Галетова-то забыли! Галетова!” И действительно, почти всех разыграли, а Галетова забыли. Галетов был добрейший человек, гурман, ценимый в ресторанах с репутацией, театрал, из театров последовательно происходили его жены, о театре и о легендах кулинарии он и писал (П. Гамлетов и С. Прованский), сочинял также субботние нравоучительные фельетоны для вечерней газеты, средства же на светскую жизнь и на жаркое от Бороды добывал репризами для цирковых клоунов. Самым подарочным случаем своей судьбы он отчего-то считал школьные годы в одном классе с баснописцем государственного значения. Или, скажем, государственного применения. Этот баснописец, а также автор сказки о хвастливом утенке (по ней была создана пьеса, либретто для балета и для оперы) постоянно пребывал у народа на виду. Порывистый в движениях мужчина, с вечным пионерским галстуком на лебединой шее, с лицом кота, готового заурчать, коли ему почешут за ухом. В нашем классе его полутораметровый портрет висел в компании с портретами Салтыкова-Щедрина, Гончарова, Лебедева-Кумача и Исаковского. Можно было сделать вывод, что, сохранившись в живых, и Щедрин с Гончаровым имели шанс получить Сталинскую премию. Наш творец хвастливого утенка был царедворец, сеятель разумного по ветру, устроитель судеб отечества, много чем руководил, перед ним снимали головные уборы педагоги. При этом в отличие от некоторых иных верховодов человеческих душ (в высотах – над их инженерами) он не вызывал чувств презрения, брезгливости или даже ненависти. Отношение к нему было легкое, неуважительно-ироническое. Пройдоха, но ведь без ущерба для всех. Меня же он и вовсе не раздражал, я даже находил в его стихах строчки милые и смешные. А вот названный мною Галетов, если его вынуждали чем-либо взгордиться, вскрикивал: “А я друг детства самого…” Такая у гурмана и театрала была блажь…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу