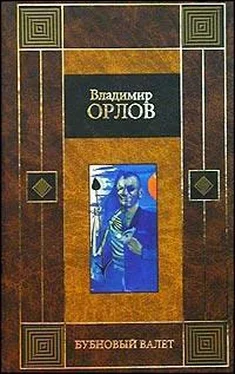Но ненадолго. Все же я почти ничего не знал о занятиях “кружковцев”. Юлия меня от многого уберегала. А вдруг обнаружатся дела или казусы, к каким охотники за нарушителями приличий общественного спокойствия и государственного равновесия смогут применить параграфы из кодексов, требующих всенародного обличения и карательных мер? Юлия уберегала меня. Я теперь должен был уберечь Юлию. От чего? Не важно. От всего. Или хотя бы разделить ее долю. Иначе мне стыдно было бы жить. В ночном автомобиле, развозившем нас по домам, я пришел к решению. Если у Юлии были дела или деяния… я не мог подобрать слово… какие, по мнению лубянцев, дают поводы для карательных мер, я возьму эти деяния на себя… ну, не все… а хотя бы часть… Но большую!.. Я, мол, ходил туда-то, я убеждал того-то, я затевал то-то, я перепечатывал то-то и то-то, я передавал рукописи тому-то и туда-то. И так далее. Мне, человеку серьезному и основательному, поверят, а ей, если она вздумает спорить, дуре взбалмошной, веры не будет. Но надо все обговорить. Сейчас же все и обговорим. Сейчас я войду в квартиру, обниму Юлику, возьму ее на руки и буду носить хоть всю ночь, и мы все обговорим. Я рассмеялся, вызвав удивление соседей в “Волге”. Сейчас мне писать об этом неловко, мысли того Куделина наверняка породили усмешку и моего долготерпящего читателя, но такова была блажь влюбленного юнца. Днем пребывающего в страхах, вечером – обнадежившего себя, в машине – обрадованного собственной готовностью к жертвоприношениям. “Если ее посадят, – постановил я в машине, – должен сидеть и я…”
Юлия ожидала меня в гостиной. Она не бросилась мне навстречу. И меня некая сила не подпустила к ней. В эти часы Юлия обычно ходила по квартире (и не ходила, а шлялась) в халате, или в каких-нибудь вольных спортивных одеждах, или почти раздетая. Нынче же она была в дорогом дневном наряде, будто намеревалась отправиться в театр или на торжество. И вид у нее был мрачно-торжественный. Молча мы стояли друг против друга. С минуту.
– Явился! – произнесла Юлия, губы почти не разомкнув.
И она подошла ко мне, а приблизившись, с размахом и со злостью ударила меня ладонью по щеке.
– Стукач! Подонок! Мерзавец! Сукин сын! Явился, и стыда нет!
И она ударила меня еще дважды. Левой рукой и правой.
– Юлия, ты что? Что с тобой?.. – бормотал я.
– Всех посадил? Всех сдал по списку, и людей, и квартиры, всех, кого тебе по дурости и простодушию назвала Анкудина! Подонок! Хорошо заплатят!
– Юлия, побойся Бога!
– Бога вспомнил! Это – ты-то! У тебя и любовь оказалась служебная. Ты и ко мне прибился, чтобы вынюхивать. И с Викой тебе тоже небось давали поручение. Шваль солодовниковская!
Я взъярился, отшвырнул от себя Юлию, она с грохотом свалила три стула и с пола уже продолжала выкрикивать:
– Стукач! А кликуха-то твоя какая стукачья? Открой, порадуй! Может, Проверяльщик? Или Футболист? Или Историк? Ключевский, может? Или Солонка? Солонка номер пятьдесят семь? А?
Я дал себе слово более не открывать рот. Пошел в коридор, снял с антресоли чемодан. Наполнил его своими вещами быстро, их было мало. Бросил в чемодан и взятые из дома книги. Неприятнее всего вышло выбирать белье. Оно у нас с Юлией лежало вместе.
– Стой! Подними руки! И шагай лицом к стене!
Я обернулся.
Юлия стояла метрах в трех от меня и двумя руками направляла на меня пистолет. Почему-то именно в это мгновение я сообразил, что на ногах у Юлии туфли на шпильках. Зачем эти шпильки?
Мне пришлось открыть рот:
– Брось пистолет. Не дури.
– Сейчас я казню тебя, Куделин, как сволочь, доносчика и предателя. Ради справедливости и во искупление своей вины.
– Никого вы не казните, Юлия Ивановна, – сказал я и шагнул к Юлии. – Надо было заниматься спортом. Ваша сестра Виктория объяснила бы вам, что из этого оружия можно лишь опалить мухе крылья. Какой идиот и зачем снабдил вас стартовым пистолетом?
Я сжал руку Юлии, отобрал пистолет и сунул его в карман брюк.
– Чтобы вы не наделали дуростей…
Я закрыл чемодан и пошел к двери. Вслед мне неслись бранные слова и девичий рев. Прежде чем захлопнуть дверь квартиры, я посчитал необходимым произнести:
– Прощай, Юлия.
***
Домой я добирался пешком. Да и идти-то мне было всего двадцать минут. Чашкины спали, а пиво мое в холодильнике стояло. И то благо. Выпала хоть какая-то почти ночная поблажка судьбы.
Понятно, спать я не мог.
Я был огорошен. Ничего подобного в моей жизни не случалось. Сейчас я вспоминаю о тогдашней своей маяте не то чтобы не болезненно (та боль нет-нет, а возникает тоской), не то чтобы легко, но во всяком случае – переносимо. В ту же ночь и на следующий день каждая минута была для меня мучительной. Любое отвлечение прерывалось мыслью: а Юлии больше нет в моей жизни. Юлии нет! Нет Юлии! Черта проведена в моей судьбе. Черный предел, за которым – лишь тьма и одиночество. И позор. Дома ко мне еще не пришло ощущение позора. Возникало лишь предчувствие позора. Но и его было достаточно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу