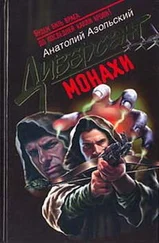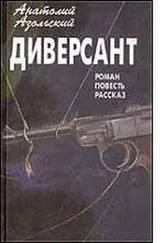С той недели, когда по заводскому двору поплыли 246 бутылок, за собой увлекая директора и всю директорскую рать, он задался, среди прочих, еще и вопросом: была ли смена руководства следствием исторического процесса, всегда полуслепого и безликого, или проявлением индивидуальной человеческой воли. Иными словами, труба в гараже лопнула из-за естественного старения металла или потому, что напортачил полупьяный сварщик, паспортные данные которого можно установить. Вопрос ответа не получил, тогда Белкин углубился в нумерологию, начав с того, что 2+4=6. Дальнейшее проникновение в науку, которую власть считала буржуазной, привело к огорчительным выводам, но в голове Белкина уже занозой засела проблема роли отдельной и греховной личности в истории погрязшего во лжи завода.
Но все вернется на круги своя — так предрешил мыслитель Белкин, на твердых ногах возвращаясь домой после внеочередной пьянки. То есть конец совместится с началом, даже если главного энергетика вдруг хватит кондрашка и где-то на пути к заводу он схватится холеной ручкой за сердечко и рухнет на асфальт или сложится пополам в метро или автобусе. Что было бы сущей нелепостью, дикой фантазией: главного энергетика с высокой должности не спихнуть, никакого транспортного происшествия с ним не случится. Никто не властен над судьбой, а судьба благоволит к несгибаемому и непотопляемому, к утесу среди моря житейских дрязг и мутных волн людской неблагодарности.
Про 246 бутылок Карасин не знал и знать не желал. Со следующего дня он приступил к осмотру той зоны, в которую заключила его судьба и которую надо было покидать при первой опасности. Вся подстанция изучена, все цеха осмотрены, из-за рыжины волос глаза Карасина казались особо чистыми и голубыми, и глаза эти сверляще проходили сквозь стены цехов, глаза чутко пробегали по синькам чертежей, запоминали схемы канализационных тоннелей и колодцев, кабельных трасс. Завод обнесли забором, кирпичной кладкой в два с половиной метра высотой, и короткие сильные ноги Карасина проверили длину периметра, останавливаясь у намечавшихся уже проломов, поскольку возводилась великая заводская стена в спешке; рядом с ней разбросались металлоконструкции не такой уж тяжести, чтоб их нельзя было подтащить к стене; тогда один стремительный взлет на кладку — и перепрыгивай, а там овраг, ручей, который остановит собак, побежавших по следу.
Впрочем, и без заводской сирены можно покидать зону обычным, не вызывающим подозрений способом, через проходную. Весна уже намекала на скорое пришествие тепла и солнца, на заводском дворе, на улицах грязь и слякоть, и все-таки однажды утром в субботу Афанасий Карасин отмахнул штору, глянул на улицу сквозь мутное стекло и подумал, что жить-то — надо, она ведь, жизнь то есть, продолжается…
А для житья-бытья мать отвела ему угловую комнату, окна выходили на пересечение арбатских переулков, дом невдалеке от театра-студии киноактера, что полезно матери, портнихе с золотыми пальцами и бойким говорком. Отец много лет назад умер внезапно, надо бы после школы поступать в институт, мать прокормила бы, на стипендию не разживешься, но отцовский гонор взыграл в Афанасии, не на дареные, а на свои хлеба решил существовать, подался в Ленинград, в Кировское училище, сюда, на Арбат, приезжал в отпуска, мать обшила его, приодела, да не впрок пошла штатская одежда, повез костюмы с собою в Красноярск, там по пьянке и влетел в одну компанию, исход плачевный, но — смотря как поглядеть. Вернулся — и пришлось свыкаться с мужчинами, которых умасливала мать. Ей все можно простить, она все силы выложила, сына из ямы вытаскивая, и когда трижды привозили его в Москву на очные ставки — так и здесь прорывалась к нему. Чем откупалась от власти — думать не хотелось, а уж эти ее клиентки, что набрасывались на него, на квартире этой продолжая и продлевая застрявшие в памяти экранно-сценические игры с мужчинами, вместе с Афанасием разыгрывая скетчи: она, бестолковая и неопытная, щечки алеют в смущении — и он, мужчина брутального типа, до баб падкий и удачливый. Или наоборот: она, бывшая звезда, при вечернем освещении еще вполне пригожая и на многое способная, — и он, не знающий, куда при волнении руки девать.
А то и ближе к прозе жизни, без притворства: клиентки двигали бедрами, закатывали глаза, заламывали руки, так выпячивали свои недевичьи прелести, что не понять уже, где сцена, где рампа, а где жизнь.
Все деньги, что зарабатывал там, на фармацевтической фабрике, уходили на выпивку, и все чаще почему-то думалось о смерти. Часами, придя с завода, сидел дома перед телефоном, гадая, кому же позвонить? Некому. Все постепенно отлетало и опадало, женщины, с которыми связан был там, на фабрике, повыходили замуж, привив ему правило: на работе — ни с кем и никогда… И на новой работе был неприкасаемым, чуть ли не чужим; иногда в кабинет заходил дежурный, позвонить по городскому — тогда Карасин вставал, удалялся, не хотел слышать про не свою жизнь: чем меньше знаешь, тем еще меньше попытаются выжать из тебя на допросах. На завод приходил всегда трезвым, как стеклышко, руки матери постарались, одет изысканно.
Читать дальше