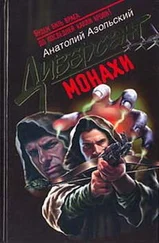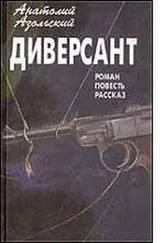Грохот взрыва и не докатился бы до кабинетов 5-го этажа, но завод обесточился, свет погас везде, лифты остановились, местные телефоны отключились, городские захлебывались, начальство появилось на подстанции не скоро. Карасин успел провести уборщицу к закуточку на складе, где был ее шкафчик, слышал рывки снимаемой юбки, помог через окно выбраться на заводской двор, губами коснулся ее пальчиков и шепнул: «Береги себя…»
Ее звали Танечкой, Танюшей, Татьяной.
Еще несло кислой гарью расплавленного металла и запахом поджаренного человеческого мяса, а главк начал жестко и неумолимо доказывать, что в смерти их инженера виновна дежурная служба завода, и доказал бы, но Белкин предъявил свой в инициативном порядке заведенный «Журнал…», высмеяв все потуги главка очернить завод и саму Овешникову, не проявившую «должного контроля», и Карасина, в том же обвиненного. Свои же ошибки главк признавать не желал, и тогда в руках Овешниковой замелькала синяя записная книжечка с телефонами, закрутился диск — и Карасин понял, зачем Овешникова держит при себе презираемого ею муженька, тихого Рафаила; супруг, которому она раз месяц, возможно, разрешала полежать рядом с ней, вхож был в дом Дымшица, второго или третьего после Предсовмина человека в правительстве.
Пошли на мировую. Издали громогласный приказ — ужесточить контроль, усилить бдительность, укрепить дисциплину, призвать к… Такой чепухи написали, что ни Овешникова, ни Карасин читать не стали, мгновенно поняв: весь приказ сляпан для того лишь, чтоб главк мог в подходящий момент нагрянуть на завод и любого под руку подвернувшегося отдать под суд, отстранить от работы, понизить разряд, лишить премии.
Но в том же приказе: на заводе произвести повторный экзамен по технике безопасности при работе с высоким напряжением!
Под приказом расписалась вся дежурная служба, все сменные энергетики, но никак не простые электромонтеры и тем более уборщицы.
Но чтоб хотя бы побыть рядом с Таней, Афанасий позвал ее в кабинет, сунул в руки приказ, а сам смотрел в высокое окно на бредущие в поисках чего-то облака…
Ему уже ничего и никого искать не надо. Вот она — Таня, Танюша, Танечка, Татьяна.
Эта тоненькая, казавшаяся прозрачной девочка, умевшая впитывать в себя шум, как губка воду, пришла на подстанцию в середине июля, провалившись на вступительных экзаменах в институт, и сразу же стали нешумными генераторы постоянного тока, вентиляция заработала неслышно, курить дежурные приучились в мастерской, они сами проводили сухой тряпкой по приборам, — и все для того, чтоб понравиться этой девчонке; она была сосудом диковинно благородной формы, в который нельзя заливать жидкость, не прошедшую все степени очистки, и уж если сосуд этот наполнен, то перемещать его надо чрезвычайно бережно; а как перемещать и чем — неизвестно, ведь притрагиваться к сосуду боязно. Девочка становилась святыней, и даже парни чуть старше двадцати не решались с нею знакомиться для приглашений в кино. Пить прекратили, кое-кто иногда срывался на мат, но тут же испуганно оглядывался. Прежняя уборщица (ее выгнали за то, что под юбкой проносила водку через проходную) никого не стесняла, дали ей для переодеваний шкафчик в мастерской, но новенькой отвели закуточек на складе, где она могла запираться. Утром звонила, дежурный распахивал дверь, вел ее (сарафанчик, простенькие сандалеточки) как почетную гостью по рифленым резиновым коврикам мимо гудящих ячеек КРУ, спрашивал, как спалось, как тетка — не придирается?.. Она была иногородней, из Ярославской области, перед экзаменами ее поселили у родни, где-то на окраине, там и жила — в надежде, что пробьется ближе к осени на вечерний или заочный факультет. Вместо спецовки выдали ей на заводе синенький халатик, ковбойка еще полагалась ей, грубые чулки и туфельки, что-то, наверное, из нижнего белья. К восьми часам утра по дорожкам и углам подстанции уже прошлась швабра, метла, а совок соскреб какие-то производственные отходы и перенес их в мусорное ведро. Звонок в дверь, появлялся новый дежурный, обходил вместе со старым подстанцию, оба любезничали с уборщицей; были случаи, когда по дороге на работу кое-кто покупал для нее скромненькие цветы или украдкой срывал с заводской клумбы на дворе что-то яркое и душистое.
В половине девятого своим ключом открывал дверь Карасин, принимал доклад дежурного, открывал кабинет для уборки — и уходил быстрым шагом, поскорее, прочь — такую боль и радость доставляла эта девчонка, возвращая его жизнь к голодным и веселым годам войны, к поре, когда в дворовых играх разрешалось обхватывать девчонок сзади, прикасаться к их спинам, класть руки на бугорочки спереди. Иногда от игр этих такое отчаяние овладевало, что он, сев на корточки, всплакивал, потому что где-то рядом, но в полной недосягаемости мерцало блаженство… Чтобы девочке этой добавлять хоть какие крохи к мизерной тарифной ставке, решили придумать ей работу по совместительству, обязали подметать всегда наглухо запертую пристройку к дальнему цеху; повел Танюшу показывать это местечко сам Афанасий, взял девочку за руку, держал ее крепко, иначе — споткнется и лоб расшибет. Шли вдоль кирпичной ограды, по периметру завода, Афанасий привычно останавливался там, где замечал выбоины в стене, позволявшие взбираться на нее, и якобы случайно брошенные бочки или ящики, по которым можно взлететь и оказаться за территорией завода.
Читать дальше