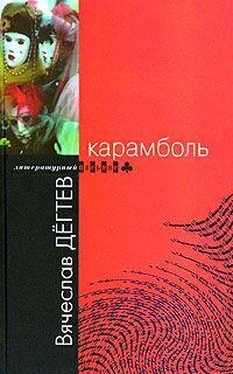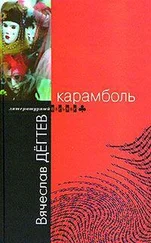— Кренчик на ветер… прибавь оборотиков… еще — сыпешься… а теперь прибери чуть-чуть… хорошо-хорошо… начинай выравнивать… плавнее… плавнее… стоп-стоп… задержи ручку… Сел!
И когда Игорь уже катился по бетонке, Поляков сказал ему вослед:
— Поздравляю. Летчик!
После чего разрешил мне занять ВПП. Я еще раз махнул сжатым кулаком Сапрыкину (а тот ляпнул Полякову про меня: этому, дескать, подсказывать не придется — слетает как надо и все сам сделает — и накаркал, козлище-никотинище…), лихо вырулил на полосу, проехал немного прямо, чтобы переднее колесо выравнялось и стало строго по створу полосы, и запросил взлет.
— Взлетайте, девяносто третий!
Я нащупал в боковом кармане заветное — зашитый бабкой образок святого великомученика Моравского князя Вячеслава и серебряный крестик, которым меня крестили когда-то в нашей старинной церкви, построенной из мела еще казаками-черкасами, дал полный, по самую заглушку, газ и отпустил тормоза. Самолет тронулся и побежал. Поехали!.. Ой ты, Халю, Халю-молодиця…
Спину вдавило в кресло, уши заложило, кабина наполнилась серым туманом с запахом горячей резины, самолет стал резво разгоняться — почему-то рывками. Ну! Ну! Ну же!.. На ручку управления давило все сильнее и сильнее — самолет стремился задрать нос. Стремился взлететь самостоятельно. Скорость была уже около двухсот. Я отпустил ручку, и зеленоватое лобовое бронестекло медленно полезло вверх, искажая, изламывая размытую полосу горизонта. И самолет, подпрыгнув, как кривоногий стервятник, оторвался от бетонки.
Есть одна у летчика мечта — высота! высота!.. И сразу, лишь только самолет оторвался от бетонки, произошло в мире нечто, изменилось что-то в мире и во мне — я словно влетел в какую-то иную среду. И я вдруг словно очнулся.
Очнулся, повел вокруг себя взглядом и осознал: один! сам!
Подняв кран уборки шасси, оглянулся — задней кабины не было. Да, я был один. Я петел — сам!
А шасси между тем с грохотом убрались — полосатые штырьки на носу и на крыльях спрятались, слышно было, как захлопнулись щитки-обтекатели, и самолет рванулся еще стремительнее, а звук полета сделался тоньше и звонче. На колесном табло вместо трех зеленых лампочек («выпущано») должны были загореться три красные («убрано»), но загорелись только две красные; левая лампочка по-прежнему зеленела, что означало: колесо не убрано. Но самолет влево не разворачивало — значит, все щитки закрыты. Может, стойка не стала на замок? Но давления в гидросистеме шасси уже не было — значит, все сработало. Может, просто не замкнулись электроконтакты? Скорее последнее. Такое частенько бывало, самолеты старые, точнее, древние, на некоторых под серебристой краской виднелись нарисованные, а потом закрашенные звезды — следы корейской или вьетнамской войны. Ничего, подумал, когда буду выпускать колеса, тогда, Бог даст, все и загорится как надо.
А туман между тем в кабине рассеялся, и дуло теперь уже теплым воздухом с уютным домашним запахом, и самолет разгонялся все сильнее, все стремительнее, он прекрасно слушался рулей, стоило лишь немного отклонить в сторону упругую ручку управления, как он послушно откликался и следовал за движением руки. Вокруг и с боков тесно обжимали всякие трубки, жгуты проводов, я сидел прочно, привязанный к катапультному креслу с мощной бронеспинкой, впереди зелено искажало мир толстое бронестекло, подо мной из фюзеляжа торчали три пушки — и я летел-несся внутри этой хищной, с подогнутыми ребристыми крыльями, железной дуры и чувствовал себя… чувствовал себя превосходно! Мой «фантом», как пуля, быстрый! В небе, голубом и чистом, С ревом набирает высоту… Я кричал, я орал что есть силы — и все равно себя не слышал.
Сейчас это даже вспоминать дико… Набрав восемьсот метров, прошел над стартом, покачал крыльями — самолет слушался рулей безупречно, он изумительно мягко раздвигал воздушные потоки, я в упоении летел и орал, и хотелось крутануть «бочку» или еще как-нибудь удивить и поразить народ, который глазел сейчас на меня снизу, — прямо так и распирало, так и подмывало выкинуть какой-нибудь финт, но я лишь помахал крыльями, что разрешалось, и видел в этот момент друзей, которые радовались за меня и немножко мне завидовали, и видел своего зверя-инструктора, который шипел: «У, козел, выпендривается!» — но в то же время и довольного: худо-бедно, а все-таки попал в первую десятку, хоть одного «музыкального мальчика» да «вывозил», вишь, летит агрегатик, крыльями машет, — а это значит, что премия обеспечена, место на Доске почета сохранится.
Читать дальше