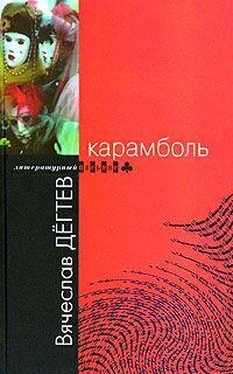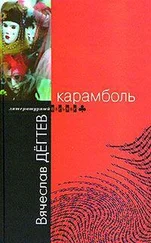На следующий день мне нужно было сдать «материал» в редакцию, иначе командировку бы не оплатили. Нужно было срочно отпечатать этот «материал» на машинке, благо, во время командировки я вел кое-какие записи. Мы зашли с ней в Литинститут, где я тогда учился, попросили в деканате свободную пишущую машинку, нашли пустую аудиторию, и я стал диктовать, а она печатала. И за два часа я надиктовал что-то около одиннадцати-двенадцати страниц какого-то текста — он бесследно исчез в недрах «Пограничника», и черт с ним!
Но перед глазами у меня до сих пор стоит картинка: конец лета, уже по-осеннему прохладно и по-московски как-то промозгло, особенно после теплой Молдавии, она сидит за машинкой, а я, расхаживая взад-вперед, диктую ей что-то ужасно патриотическое. Даже, кажется, милитаристское. Она, ухмыляясь и сдувая с носа пряди выбивающихся рыжеватых волос, размашисто, очередями, печатает на машинке, а я расхаживаю, как какой-нибудь Симонов (почему-то именно этот писатель приходит на ум), расхаживаю, смотрю за пыльное стекло, что в радужных разводах, на редких прохожих смотрю, семенящих по Тверскому бульвару, на тронутые увяданием липы, на серое небо за узкими окнами, смотрю и диктую, и меня томит, томит до раздражения, до глухого исступления непроходящее, разгорающееся желание. Я стараюсь не смотреть на ее отставленный, выпуклый, расплывающийся по стулу упругий зад, на ее тонкую талию, подчеркивающую эту шикарную лепнину природы, на ее конусообразные груди, нависающие над машинкой, я не могу дождаться, когда же закончу эту проклятую статью.
А потом начинается дождь, и пыльные окна плачут, и мы включаем свет, и откуда-то начинает звучать какая-то музыка, и я вижу непонятным образом наши освещенные окна снаружи и обнимаю ее…
Да, мне было тогда тридцать, всего лишь тридцать, а ей — двадцать пять. У меня к тому времени было почти десять лет семейного «стажа», две жены и трое детей. Я давно поставил на себе, на своей пропащей молодости (да чего там — жизни!) большущий крест, считал, что в прошлом не было ничего стоящего, ничего, кроме суеты и бессмысленной борьбы за место под солнцем, жизнь не удалась, счастье пролетело стороной, ну и пропадай все пропадом! А она всего только два месяца, как начала взрослую женскую жизнь. И начала ее — со мной!..
О-о-о, я безумствовал по ночам! Мы спали по три-четыре часа. Да и днем, если честно, не знали укороту. Я постоянно хотел ее, желал, жаждал! И ее это тогда еще не начинало раздражать… Лишь теперь понимаю, что то были лучшие, счастливейшие дни. Но я был молод, здоров, эгоистичен и воспринимал все как само собой разумеющееся.
Вот так и стоит перед глазами: я хожу из угла в угол, диктую (кажется, это происходило в той аудитории, где сейчас расположен музей Платонова, а когда-то была его квартира), диктую, представляя себя писателем Симоновым, который точно так же брал машинистку после военных командировок и диктовал книги за неделю — прямо набело! — диктую, расхаживая взад-вперед, вожделенно посматривая на ее конусообразные груди в кофточке со смелым вырезом (а под кофточкой ничего больше нет!), что нависают над машинкой, на ее узкую, прямо-таки осиную талию, подчеркивающую пышный, расплывшийся по стулу раздвоенный зад, обтянутый джинсами, и никак не могу дождаться того момента, когда же дойду до конца. И мне аж тоскливо от ожидания… Тогда я не знал, что картинка эта так и останется в памяти на всю жизнь и что ничего лучше в жизни уже не будет. Да! Вот он я, молодой, здоровый, с необузданными желаниями, и вот она, любящая, не напуганная еще женскими проблемами, готовая на все ради меня, — вот сейчас допишем эту дурацкую статью, весьма занудную, закроемся в аудитории, где раньше была квартира великого писателя, и под монотонный шум дождя за окном сольемся в одно целое, — и я стараюсь диктовать побыстрее в предвкушении этого, уже близкого события, и она, зная об этих моих мыслях и желаниях, старается печатать скорее, и глаза ее горят нетерпением, и она ерзает на лакированном стуле, и грудь ее вздымается томно, а тонкий стан выгибается, как у гибкой, чувственной пантеры, зеленоглазой лапушки-кошки.
Да, это были неповторимые минуты. И я воспринимал это как должное. Я никак не мог насытиться жизнью. Ведь молодости как таковой у меня не было. Меня женили в двадцать с половиной лет. А в двадцать один у меня уже был ребенок. В двадцать два я стал строить дом — без копейки в кармане. Из юноши я сразу превратился в мужика… В двадцать три года моя глупая, неопрятная жена, пребывавшая все время в состоянии летаргии и перманентной беременности, родила второго сына, и я понял, что всякая разумная жизнь для меня кончилась. Начиналась жизнь растительная… В двадцать шесть лет я развелся — и все усилия с домом пошли прахом. Со второй женой, у которой уже был сын от первого брака, начались новые проблемы, все более и более затягивающие своей неразрешимостью — в новое болото быта беспросветного, бесперспективного.
Читать дальше