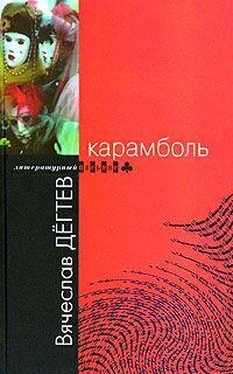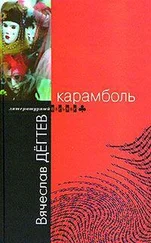Углем рисует хитроватую мордашку Белки. Толстым плотницким карандашом рисует коноплянок-нытиков. Охряным рассыпающимся кирпичом рисует красное солнышко-ярило, с прямыми, во все стороны расходящимися лучами.
Его двор давно уже расписан-размалеван весь. Заборы, доски, фанерки, лавки, даже плетень как-нибудь да разукрашен. Когда Коля рисует — он преображается, и все вдруг забывают, что он убогий, что он дурачок, что он — вака…
Когда он начинает рисовать — что-то происходит. В мире ли, в нем ли самом. Все плохое, все то, что «бля-бля», боль, обиды, непонимание, унижения, уходит, забывается, словно куда-то проваливается, и он видит какой-то другой мир, чудесный и чудный, и живет в нем, в ином том мире, и видит там себя, красивого, здорового, веселого, с русой бородкой, белозубо улыбающегося, а рядом прекрасную даму, которая восхищенно на него взирает черными бархатными глазами; дама похожа на Алку Прокуриху, первую хуторскую красавицу, она нежно шепчет ему: дю-дю!..
Да вот… вот же этот рисунок на картонке: вот красный, как огонь, конь, а на коне том Коля, изображенный химическим карандашом, с бородкой и с саблей на боку, а рядом пышнотелая возлюбленная, нарисованная цветными мелками, и над ними, над всем этим чудесным миром, счастливым, ярким, — круглое и желтое, как желток, солнце.
За каждый рисунок Женик Экзот платит Коле один леденец из жестяной круглой коробочки; в таких коробочках мужики держат табак. И уж Коля для него старается — аж пот на носу выступает.
О Боже, как давно это было! Словно в другой, чужой жизни. И словно только что, сию минуту, закончил рисовать эту картинку Коля, и вы, хуторская ребятня, посмеиваясь и хихикая, спрашиваете: а это кто? а это? а это, наверное, Алка Прокуриха? — и Коля, засопев, прячет эту фанерку себе под зад. Увы, как не заглянуть за угол вчерашнего дня, так и не заглянуть в тот светлый, чудесный день, когда лес истекал медвяными, ладанными испарениями. Осталась от того времени лишь эта изрисованная каракулями фанерка — как чудесное, волшебное окошко…
Я вижу все это как бы сверху. Вот с лязгом мчится трактор Васьки Лявухи, с блестящими лемехами. Вот Прокур гонит табун лошадей, гарцует на горбоносом и вислозадом жеребце Мадьяре, ставит его на дыбы. На Мадьяре новенькое хрустящее седло, на Прокуре — кавалерийская фуражка, лихо заломленная, из-под которой вьется смоляной чуб. А вот и мы, хуторские ребята. Пацаны. Среди других вижу себя, пухленького, как медвежонок, с ямками на щеках, которого зовут то Центнер, то Куцый. Потому что похож на куцых, толстых городских собак.
— Коль, а Коль! — говорит самый бойкий из нас, задира и коновод Бартень. — Ну-ка, покажи пичужку!
Коля начинает фыркать и плеваться. А Бартень хорохорится:
— Что, боишься?
И сам расстегивает штаны и вываливает «струмент» мужичьего калибра — врагам, как говорится, на зависть.
Так вот же он, Бартень. Точнее, увеличенное фото рисунка. Все тут нарисовано: и хохолок, словно зализанный шаловливой коровой, на месте, и кепка по-урочьи надвинута на самые глаза, и папироска в зубах щербатых, а в руках у него — такое! Нечто, похожее на ракету. Или средней толщины бревно.
Как же я забыл все это? Ведь это нас с Дутым Бартень заставлял забеливать на стене этот Колин рисунок, на наш тогдашний взгляд — безобидный и не совсем понятный. Подчиняясь нашему атаману, мы безропотно забелили и наутро забыли, но только Женик, видно, оказался проворнее нас со своим «Зенитом» — запечатлел, стервец, на пленку. Увековечил.
А Бартеня-то уж три года как нету в живых. Умер от язвы.
x x x
Я иду, бреду вдоль картинок, вдоль фотографий, и вдруг вижу комету. Да, да, ту самую — из детства, что с хвостом как раструб.
В то лето несколько ночей кряду она висела прямо над головой, со странным своим пылевидным хвостом, похожим на рупор. Я мог смотреть на нее часами. Комета завораживала. Она меня притягивала. Чем-то, что нельзя было передать словами, но что вызывало озноб по спине. Это был посланец из древнего прошлого. Она свидетельствовала о других мирах, о тех людях, которые жили на земле раньше, она помнила блеск глаз всех моих предков… Нет, нет, не то. Это сейчас, наверное, додумалось. А тогда… Тогда присутствовал какой-то полумистический восторг, граничащий со священным ужасом. Минуты, часы летели как мгновения — я смотрел и не мог оторваться. Я — созерцал. Душа очищалась, омывалась голубой тишиной.
И во мне начинало звучать что-то такое мощное, вселенское, и тогда я непонятным образом ощущал движение всего нашего гигантского, громоздкого мироздания и видел себя в этом механизме ничтожной песчинкой, пылинкой малой на одной из шестеренок. Сейчас это редко со мной бывает, а тогда… тогда стоило лишь остановиться, замереть, посмотреть на небо, и… вот она, музыка небесных сфер! — уже звучит не в ушах, а где-то в позвоночном, кажется, столбе. Видно, душа еще помнила, еще не забыла вечноледяного космического прозябания и отзывалась на пречистый тот космический зов — так мне кажется сейчас, перегруженному всякими мудреными знаниями бесполезными.
Читать дальше