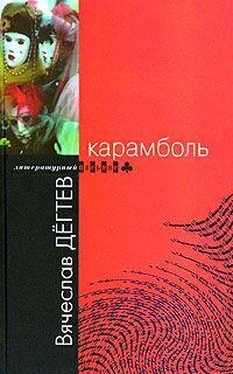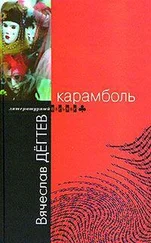Ты посмел иметь идеалы.
Ты посмел следовать им.
Да кто ты, собственно, такой?.. Самый умный, что ль?
У тебя тогда иссякало уже терпение и кончались силы на продолжение той бессмысленной, беспросветной и бесперспективной, на чужой взгляд, борьбы, — да, силы кончались, когда Боженька и послал тебе эту соломинку.
Нет, опять что-то не то. Надо бы поднапустить размышлений и философии позаковыристей, надергать из книжек житейских афоризмов, найти или придумать какой-нибудь «ход», вроде как это рассказ сына, а потом рассказ соседки, а потом — тещи, или еще что-нибудь в этом духе, оживляющее повествование, или что действие происходит на другой планете, а герои — думающие, точнее, страдающие растения, или поднапустить розовых сентиментальных соплей…
Вы ведь сидели с ней на горе, среди цветущего, пьянящего шиповника, рядом с полуразрушенной колокольней, на месте старого кладбища, и под вами, в каменистой земле, ногами на восход, лежали скелеты древних людей, ваших предков, а вы сидели, обнявшись, на уворованной со стройки двери, сидели, прижавшись друг к другу, на вашем «ложе любви» среди древних, как мир, ароматов, в которые вплетался стойкий и такой же древний запах пролитого семени, и внизу, сквозь колючие ветки, синело рукотворное «море», а вы сидели и пели что-то грустное и в то же время жизнеутверждающее, и ты верил, ты знал, что все так и будет, так и случится, как вам тогда мечталось.
И вот прошло время, и все случилось, как вам тогда мечталось.
Да, так все и случилось: и по домам творчества поездил, и по миру поколесил. Только без нее.
И в школе уже изучают, попал в словари-энциклопедии, в учебники-хрестоматии, дети разбирают по косточкам рассказы, спорят, как нужно понимать такое-то выражение или другое. Но только нет от этого и сотой доли той радости, того детского почти восторга, который подкатывал к горлу, стоило начать о таком тогда всего лишь мечтать.
Да, вы мечтали тогда обо всем об этом, сидя в обнимку среди цветущего нежно-сладкого шиповника, и эти святые ваши мечты греют тебя до сих пор в неуютной, холодной твоей юдоли. Увы, как говорится, и ах…
Но порой странно делается: неужто все это происходило с крикливой этой и невоздержанной, неумной женщиной? Неужто именно с ней были у тебя когда-то сладкие, до умопомрачения счастливые, минуты? Неужто с этой грубой женщиной просили вы Боженьку, просили, сплетясь ногами, со слезами на глазах просили, чтоб послал вам ребеночка?
И вот сыну вашему уже семнадцатый годок — несчастный, несчастный мальчик! Безотцовщина.
Да, тогда она была в самом деле — как оазис среди выжженой людской ненавистью и алчностью черной пустыни, точнее, грязной свалки, населенной какими-то бездушными, узколобыми приматами в одеяниях человечьих.
Нет, ты не клянешь ее, даже задним числом, наоборот, благодарен ей за те минуты и часы, которые она подарила, ты благодарен ей во имя святых тех юношеских грез, во имя наивных тех мечтаний, которые она делила с тобой, благодарен за то тепло, на которое она не скупилась, не скупилась в самое неблагоприятное, самое неласковое для тебя время. Сейчас даже вспоминать ту эпоху страшно: еще б чуть-чуть, и ты бы нырнул — или в бутылку, как в омут, или в мир преступный. Но ты не сломался.
Ты закалился. Но и огрубел. Опростился и закаленел сердцем. И сейчас, пожалуй, в твердости и бездушии превзошел даже тех, от кого страдал в свое время, страдал от их черствости, прямолинейности и грубости. Сам же сейчас сделался — даже писать страшно, каким…
Ну что это за «рассказ» — ни занимательной фабулы, ни закрученного сюжета, ни чего иного, что сделало бы этот текст полноценной беллетристикой. Нет, никакой это не рассказ. И будь сам на месте читателя, я бы давно уже забросил эту писанину куда-нибудь за диван.
Боже, какой же сволочью ты в конце концов сделался! Самое святое, самое-самое чистое, что было в жизни, цинично продумываешь, как бы половчее закрутить, как бы покрасивше завернуть, чтоб повыгодней продать. Да, это так. Правду говорят про тебя — подлец. Который даже не понимает своей низости, подонок, не осознающий меры своего падения.
Да, это так.
Двенадцать лет живу сразу с тремя женщинами, две из которых родили от меня детей, и я как ни в чем не бывало хожу к ним, остаюсь ночевать, общаюсь с детьми, и дети все уже понимают, и молчат, и все равно любят тебя, гада такого, потому что другого папашки у них нет и уж не суждено быть, — в общем, живешь, аки татарин поганый, потому что тебе так удобно, потому что избаловался, а женщины (и их родители) безропотно терпят все это и ждут, и надеются.
Читать дальше