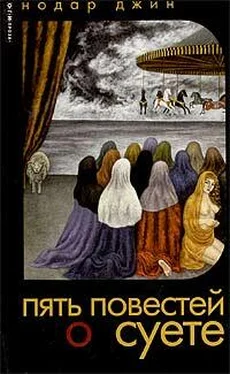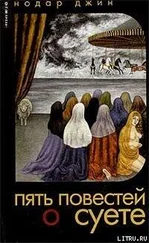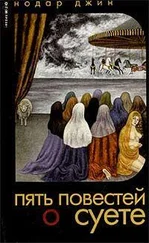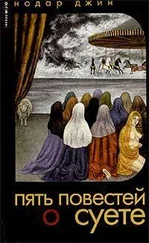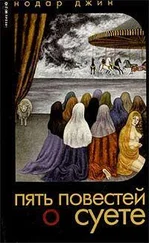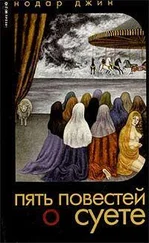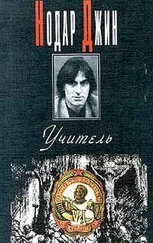Вскинув глаза, я увидел перед собой столько же японок. Одинаково крохотных и синих, как почки на ветке сакуры — хотя и с разными лицами, чтобы различать. Лишённые возраста, но оснащённые камерами, японки щёлкнули меня ещё раз, а потом одна из них, с самыми синими губами, сюсюкнула, что в молящемся католике её умиляет доверие к Небесному Судье.
В иной ситуации я бы откликнулся в стиле как раз манчестерского судьи, но к японкам испытывал благодарность, поскольку они отвлекли меня от брошюры. Отшвырнув её, я встал и сообщил гостьям, что, не будучи католиком, прихожусь им бывшим соседом: от Японских островов Россию отделяет только пролив.
Трое развернулись и примкнули к толпе, но четвёртая, с губами, пришла в восторг. Демонстрируя знание России, объявила, что Зиноски — гад, Ицин загадочен, а Чахо — душка.
Я напрягся и выяснил, будто Жириновский симптоматичен только потому, что никакой пролив, по его мнению, не вправе отделить от России Курильские острова или допустить их слияния с Японскими. Утверждение о загадочности Ельцина я отверг тоже: какая в том загадка, если опытный коммунист, испытав решительный упадок умственных сил, объявляет себя и демократом и реформатором, а потом уходит на пенсию в Кремль, где, между тем, не столько отдыхает, сколько лечится?
Японка не поняла меня и перешла к Чахо. Сказала, что это — русский классик, сочинивший много историй про людей, хотя больше всего ей нравится про собаку. Я заподозрил Тургенева, но она настояла, что классика зовут Чахо.
А как зовут собаку, улыбнулся я. Не Муму?
Пёсик был без имени, улыбнулась и она, но выглядел «вот так».
С этими словами японка оглянулась сперва на Грабовского и убедилась, что тот продолжает стоять перед Марией и объяснять толпе технику непорочного зачатия. Потом решительно шагнула ко мне и раскрыла сумку, из которой на меня пялился крохотный шпиц. Белый.
Моя реакция тоже была поэтапной. Сначала я обомлел. Потом пролепетал, что классика зовут Чехов, а рассказ называется «Дама с собачкой». Сияя, она вставила, что всю жизнь воображает себя этой дамой, но обзавелась собачкой только вчера.
Как только я снова изобразил на лице недоумение, японка заверила меня, что собачий карантин на вывоз не распространяется.
Я думал уже о неочевидном. И о том, что за очевидным не поспеваю.
Не поспел и за тем — почему вдруг Грабовски шагнул ко мне и извинился. Сперва показалось, будто пришёл забирать у меня японку. Выяснилось вспомнил обо мне из вежливости. Я ответил, что уже ухожу, но вернусь молиться в сочельник, поскольку эта церковь набита людьми не только в Рождество, но и в будни.
Грабовски — в нечётком квадрате своём — рассмеялся:
— Приходите хоть в Рождество! Всё равно усажу вас в седилию!
Я снова опустился на мраморную полку:
— Куда?! Вы имеете в виду «s-e-d-i-l-i-a»?
— Обещаю!
Потом я постепенно выговорил:
— Отец Грабовски, что такое «седилия»?
— Место, на котором вы сидите! Самое почётное! Рядом с алтарём!
6. Нет ничего более постоянного, чем отсутствие
На съезд консерваторов я не пошёл в тот день. Не пошёл и в следующий. Не брился, не ел и на лондонские звонки не отзывался. Мне было некогда: я наконец расписался — и через неделю рукопись была завершена.
Но расписал я не ту историю, на которой застрял. Не о Стиве Грабовском.
О другом человеке.
Подобно каждому, меньше всего на свете мне известно о самом себе. О том как устроен мой собственный мозг. Поэтому, кстати, претендуя на понимание мироздания, никто не способен понять свою судьбу. Познавшие бога не знают себя, и в несуществующем каждый идиот разбирается лучше, чем в своих ощущениях.
Ещё до возвращения в гостиницу, направляясь к выходу из церкви Грабовского, я — неожиданно для себя — вспомнил Анну Хмельницкую, которую три года назад встретил мимолётно в городе Сочи. И никогда с той поры не видел.
В тот день ей исполнилось двадцать два — и все эти годы она прожила у моря. Имея о счастье смутное представление и догадываясь лишь чем оно быть не может, там, в Сочи, Анна его и дожидалась. Поначалу ей думалось, что оно набежит нечаянно — без предупреждения и её участия. Как волна. Так однажды и случилось, но поскольку счастье не устоялось и схлынуло, Анна убедила себя, будто вечный праздник придёт только если выйти к нему навстречу.
Убеждений, включая это, было у неё мало. Как благодаря непредрасположенности к мышлению, так и полной незаинтересованности в нём. Быть может, как раз поэтому — больше, чем кто-либо ещё — она и утвердила меня в подозрении, что любая судьба связана с любою другой. И связана через энергию, которую рождают наши ощущения. Причём, связаны мы не только с такою судьбой, которая где-то была или есть, но даже с той, которая пока не случилась и никогда не случится.
Читать дальше