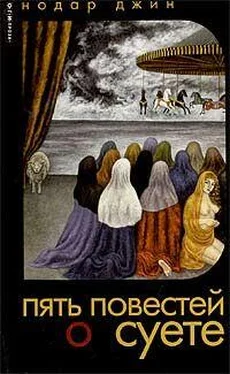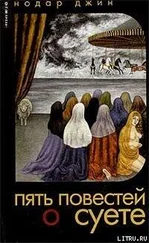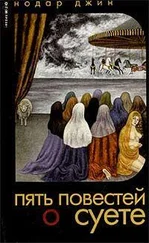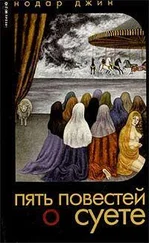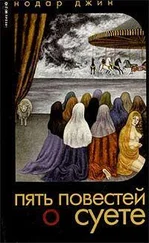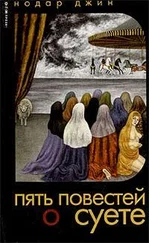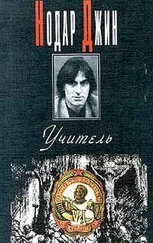— Со словами у вас, я уверен, наладится быстро: главное — великолепная интонация. Британская, — кивнул Бродман и добавил: — Ну, чем порадуете? Как она там?
— Кто? — не понял я.
— Россия?
— Спасибо! — ответил я.
— Пьёт? — снова улыбнулся Бродман и повернулся к профессору Хау: — Профессиональный интерес. Я предлагаю Москве свою водку, зато уступаю ей Южную Америку: продавайте там вашу «Столи» сколько влезет, а сами берите мою за бесценок. При одном условии — отпустите мне моих евреев. Понимаешь?
— Понимаю, — признался Хау, — но за твоих евреев, которые, кстати, не только твои, за наших общих евреев Москва, боюсь, потребует у тебя не дешёвую водку, а дорогую закуску.
— Извините! — обратился ко мне интеллектуал с крючковатым носом и волосатыми руками.
Оказался поэтом и приходился другом сперва просто сбежавшему, а потом уже и скончавшемуся в бегах персидскому шаху. Когда он сообщил мне об этом, я ужаснулся, ибо, если верить Пие, у меня был такой же акцент.
— Извините, — повторил он после этого сообщения, — а вы знаете, что у вас персидское имя?
— Ни в коем случае! — возмутился я под смех Пии. — Какое же это персидское имя?! Еврейское: «нэдер», то есть «клятва», «обет».
— Поверьте мне! — улыбался перс. — Я филолог: это персидское слово; «надир», то есть «зверь», «животное»…
— Нет, арабское! — вмешался теперь интеллектуал с более волосатыми руками и ещё более крючковатым носом, но с таким же отвратительным акцентом. Он был профессором из оккупированной палестинской территории. — Типичное арабское слово: идёт от арабского «назир», то есть «противоположное тому, что в зените». То есть, если хотите, «крайняя депрессия».
Я этого не хотел и стал протестовать:
— Нет, господа, это, если уж честно, старое и доброе грузинское имя! — и добавил вопиющую ложь: — А грузины никогда не водились ни с персами, ни с арабами!
— Как же так? — обиделся араб. — А как же мамлюки? Мамлюки, господин Бродман, — это грузины, которые когда-то служили в арабской армии… А что касается вашего имени, Назир, мы, арабы, даже говорим: «назир ас-самт»! Сейчас я вам переведу…
Перевести не позволил ему внезапный звон колокольчика, после чего Бродман всплеснул руками:
— Готово, господа! К столу!
16. Переходите сразу на виски
Интеллектуалы осеклись и послушно направились к круглому столу на помосте под стеклянной крышей. Это групповое шествие напомнило мне об общепримиряющей энергии гастритного невроза.
Пробираясь к столу, я заметил на стене старинное зеркало с серебром вместо стекла, а рядом, в белой рамке, — мерцающих танцовщиц Дега.
В углу стоял телевизор, демонстрировавший сцену заклания быка. Увильнув от него вправо, матадор занёс над скотиной шпагу, но когда расстояние между ней и бычьим загривком сошло на нет, сцена оборвалась — и на экране возникла сперва стремительная реклама слабительного лекарства, а потом, тоже на мгновение, лицо Пии Армстронг, выстрелившей невнятной для меня фразой.
— А я не расслышал, — повернулся я к ней.
Она рассмеялась и передразнила себя:
— «Жители Вермонта объяты ужасом последних убийств, а проповедник Гризли признался в изнасиловании юного баптиста! Об этом и другом — не забывайте — в пять часов!»
— Правда? — оторопел я. — Зато у вас очень хорошая улыбка! Такая… Нет, я этого слова по-английски не знаю…
— Кацо! — окликнула меня Марго. — Садись же с нами!
— Извините, Марго, — ответил я ей по-английски, — но я сяду здесь, потому что хочу сразу перейти на английский…
Марго осудила моё нежелание общаться с ней:
— Лучше — переходите сразу на виски!
17. Свободным людям изощрённость не нужна
Помимо виски каждому за столом раздали по розовой открытке с описанием начинавшегося ланча. Суп из спаржи и эстрагона. Креветки в приправе из куркумового корня и пряностей с карликовой кукурузой и с диким рисом, политым соусом из манго и гран-манье. Кокосовый пирог с начинкой из зелёного лимона. Клубника в шоколаде. И, наконец, вина «Сухой родник» и «Савиньон Бланк».
Как только гости вылакали суп из спаржи и эстрагона, а немецкие серебряные ложки перестали лязгать по китайским фарфоровым тарелкам, Эдвард Бродман предоставил слово Уилу Багли.
Багли не сказал ничего нового, но говорил остроумно. В основном о крахе коммунизма.
Хотя его отдельные наблюдения мелькали, бывало, и в моей голове, происходило это тихо. Никогда раньше мне не приходилось слышать столь громогласного надругательства над взрастившим меня обществом.
Читать дальше