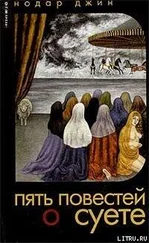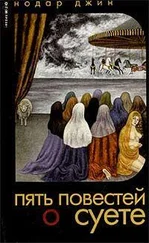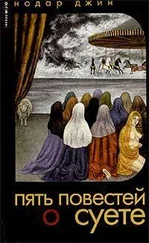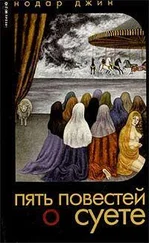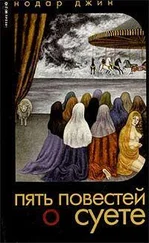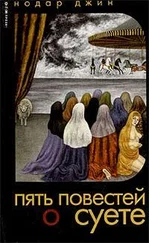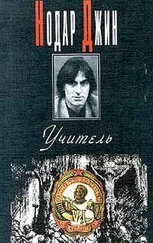Каждый из стариков перебирал в ладонях светящиеся бусы, но тот, кто оказался ко мне ближе, сжимал в кулаке пестик из щербленного базальта, которым крошат в ступе пряности. На базальтовой плите перед собой старик держал не ступу, а кирзовый сапог со скатанным голенищем. Он придирчиво всматривался в днище кожаного ковша, прицеливал пестик к пятачку на внутренней стороне подошвы, колотил по нему и чертыхался, потому что промахивался. Через несколько попыток, не поднимая головы, буркнул, что его зовут Хаим Исраелов, а на Кавказе приличных сапожников уже не найти:
— Вчера, понимаешь, мне прибили тут новые каблуки, а гвозди торчат концами в подошве! Изодрали всю ступню, смотри! Но зачем мне новые каблуки; сидишь на месте, и ничего не происходит. Ничего никуда не движется. Все уехали. Теперь у нас как на кладбище. Даже река — видел? — не течет. Редко. И облака на небе… Потолкаются раз в неделю — и стоят! Понял?
Я ответил, что уезжаю в Америку и пришел фотографировать. Старики сгрудились вокруг Хаима и согласились с ним, будто слышали о моем деде, который, хотя был силен, и кулаком сбивал быка, все равно, увы, вместо того, чтобы жить, скончался, — что, впрочем, неглупо, ибо в раю, куда он переселился, лучше, чем даже в Грузии. Слышали они и об Америке, где — в отличие от моего деда — никто сам не умирает, поскольку в раю не лучше, чем там; а для того, чтобы учредить кладбище, без чего жить нельзя, приходится убивать здоровых людей, чем американцы в основном и занимаются.
Потом Хаим натянул на ноги кирзовые сапоги, поднялся с кушетки и оказался ниже, чем когда сидел. Заметив мое удивление, смутился и поспешил отвлечь меня страдальческой гримасой, которую объяснил тем, что ему, видимо, не удалось притупить кончики гвоздей. Я отступил на шаг, чтобы смотреть ему в глаза, а не в папаху, и предложил свою помощь, пояснив, что унаследовал от деда способность к прицельным ударам. Хаим оскорбился. А может быть, и нет, — просто сделал вид, желая отвлечь мое внимание еще дальше от своего роста. Объявил, что ни он, ни его друзья в помощи не нуждаются: мы не беспризорники, а знаменитые музыканты; денег скопили пудами, и каждый кроме него, Хаима, имеет сыновей ростом меня не ниже, а у Хаима — хотя и дочь, но зато живет в Москве. Старики опять закивали головами, увенчанными одинаковыми папахами из седого каракуля, загалдели и стали описывать свои квартиры.
Хаим вытащил из брюк связку ключей, подбросил ее вверх, но не поймал. Поднять ее с бетонной плиты, на которую она плюхнулась, он мне не позволил; взамен взглядом потребовал выказать реакцию на заявление об их величии и достатке.
— Стоп, господа! — воскликнул я, но старики, наоборот, зашевелились и шагнули ко мне ближе. — Как же так?! Почему вы при ваших, говорите, квартирах забрались в эту глушь? И поселились вместе на кушетках… В этой вот, извините, кишке?
Старики заморгали, переглянулись и почему-то стали жевать. К чему бы это, спросил я себя. Стало тихо. За порогом постанывал от холода ветер и просился вовнутрь, прокрадываясь в щель под дверью и проникая мне под штанину. Влага захлюпала с потолка чаще, а мухи в промежутке между икающими каплями зажужжали громче. Старики продолжали хранить молчание.
— Прошу прощения, — произнес я наконец. — Не отвечайте: уже понимаю! И скажу прямо: очень вас за это уважаю! За то, что держитесь друг друга! После сорока лет совместных блужданий! Я от людей быстро устаю! Через сорок лет даже Моисей показался бы мне болваном. Кстати, всем он там таковым и казался, помните? И все, кто блуждали вместе с ним, разругались, помните? И вообще!
Старики снова переглянулись и уставились вниз на Хаима, который и был у них за Моисея. Хаим изволил улыбнуться, и когда вслед за ним захихикали остальные, объяснил:
— Мы тоже! Все сорок лет! Я как-то умирал: рыбой отравился, — и приснилось, что перед смертью я подарил им всем по вобле…
— Кому им? — перебил я.
— Нам! — ответил длинный копченый старик, напоминавший именно воблу. — Каждому по рыбе!
— Правильно! — кивнул Хаим. — Но больше не перебивай! Подарил каждому по вобле, и только они собрались ее есть, как меня осенило, что рыбы отравлены. Я сперва дернулся отбирать подарок, но потом раздумал: пусть, думаю, жуют: надоели… А потом вдруг я не умер и — обрадовался. Почему? Если б умер, то так бы и не узнал, что рыбу с мышьяком, которою я отравился, подсунули мне с умыслом!
— Не может быть! — соврал я.
— Родной брат! — гордо объявил Хаим.
Читать дальше