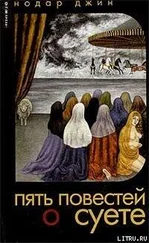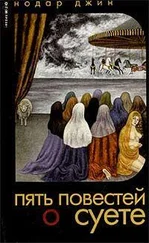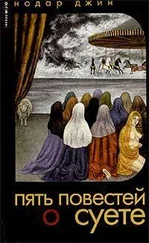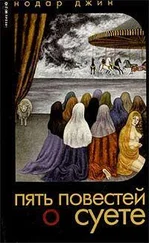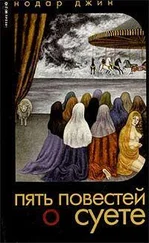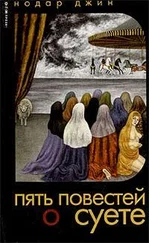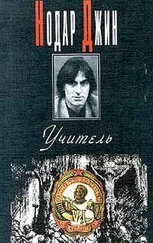Скорее всего, Габриелу удивило поначалу то же самое, что и меня, неподобающая ситуации нежность поцелуя, лишенного терпкого привкуса страха перед близостью особого восторга, который доступен лишь странникам. Подавшись вплотную к Габриеле и бережно — как если бы надолго — расположив ладони на ее шее, я стал не спеша ласкать ее прохладные губы и прислушиваться к растраченному запаху красного мака, не удушившего меня, как прежде, в тесной пещере моей собственной плоти, а переманившего в посторонний желто-зеленый мир передо мной, пронизанный ощущением податливой полноты, мягких изгибов и изобилия.
Припав к Габриеле грудью, я наслаждался надежностью женской плоти враставшей в мой собственный организм и избавлявшей его от привязанности к себе, — сладкое чувство высвобождения из оков, которыми я был с собою связан. Перестал и ощущать себя: отдельно меня уже не было, а поэтому не стало уже и ничего из того, что недавно было только во мне, — ни какого-нибудь помышления, ни страха перед следующими мгновениями, ни памяти о предыдущих. Я не обладал уже даже собою. Перестал осязать и Габриелу; было лишь состояние растворенности в чем-то безграничном и женском… Но потом вдруг поцелуй себя истратил и перестал быть…
Настала пауза полного бездействия: мы с Габриелой открыли глаза и уставились друг на друга. В ее зрачках я разглядел то же самое, что она, должно быть, — в моих: спокойное удивление, не тронутое ни чувством, ни мыслью. Когда сошло на нет и удивление, я стал возвращаться в себя, но чувство, недавно потянувшее меня к этой женщине, не возвратилось; в том самом месте, где оно во мне было, разрасталась теперь пустота, потому что никакое чувство не способно длиться без желания о нем думать.
Продолжалось зато и крепло настроение, завязавшееся во мне тотчас же, как я приник губами к дыханию Габриелы, — безразличие к катастрофе. Самолет, между тем, не только уже не дергало, — сходило на нет и дрожание.
— Почему вдруг не идем вниз? — возмутился я.
— Как же не идем?! — удивилась в ответ Габриела, которая только недавно представилась мне духом, отягощенным женской плотью, а сейчас смотрелась отчуждающе красивой куклой, пусть и не мертвой, но никогда еще живой не бывавшей. — Скоро садимся.
Прежде, чем проникнуть в смысл услышанного, я обратил внимание, что случившееся между нашими губами Габриелу ничуть не смущало: бросив уже на меня свой обычный уверенный взгляд, она нащупала левой рукой в кармашке жилета сиреневую губную помаду со стеклянным наконечником и, дождавшись пока я заморгал, отвернулась к стеклу, заглянула в него и не своим голосом произнесла:
— «У нас только одна жизнь, и „Ореоль“ настаивает, что прожить ее надо с сиреневыми губами!»
Никакой разницы между собой и ею я не видел: либо теперь, либо прежде, либо же и теперь, и прежде, она скрывалась за масками, но все они были ее собственными. Когда она закончила закрашивать себе стертые губы и повернулась ко мне, я наконец спросил:
— Говорите — «садимся»?
— Я поднялась вернуть вас на ваше место.
— Идем на посадку? — и почувствовал почти разочарование.
— Давно идем, — и садимся через полчаса, а вам, повторяю, надо идти к себе и пристегнуться! — и она стала выбираться из кресла.
Когда Габриела подалась вперед, и корпус ее вернулся во вторую зону, мы, обменявшись мимолетным взглядом, оттянули головы назад. Выпрямившись на ногах, она — близко от моего лица — стала оправлять юбку на коленях, которые у нее, как и прежде, до взлета, мелко подрагивали в тесных сетчатых чулках. Тогдашнее плотоядное чувство ко мне не возвратилось: быть может, разглядев в ней свое отражение, я перестал воспринимать ее как нечто чуждое и тем самым влекущее к себе. А быть может, — хотя мы с Габриелой не закончили даже целоваться, — дело обстояло проще, как и бывает между странниками, которые всякий раз надеются, что наслаждение поможет им отряхнуться от оболванивающей непраздничности бытия.
Поэтому мы и вкладываем в наслаждение со странником все свои силы, за исключением того, чего быть не может, — знания странника. Непраздничность жизни есть единственно нормальное ее состояние, — так же, как и единственно нормальной является любовь к человеку через знание его. Но избегая непраздничности, мы ищем сверхчеловеческое посредством наслаждения со странником, то есть без знания его и без любви к нему, — не будучи человеком. И каждый раз это наслаждение завершается разрушительной грустью, ибо, не поднявшись до человеческого, невозможно человеческое превзойти. Наслаждение не заканчивается праздником и нарастанием прежних сил, которых снова не станет хватать для преодоления тоски бытия. И эта тревожная догадка — не как мысль, а как ощущение — возникает каждый раз. А иногда приходит и не отпускает.
Читать дальше