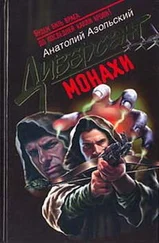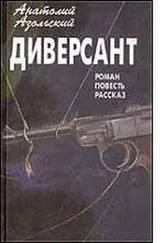— Из райкоммунхоза Куйбышевского дорстроя! — И в мурлыкании слышалось уже рычание тигрят.
Проклятый самотек! Я уже вычитал в нем, как и почему хулиганят посланцы Лубянки, давно осознавшие гибельность своей безнаказанности и сладость ее. Ведь по одежде видно: не совслужащие, костюмы магазинные, чешские, но у хорошего портного побывали.
Дождался все-таки «кирпичей», вылетел из редакции и дал волю гневу, плевался, ругался, матом осквернил бронзового Александра Сергеевича. Надо ж быть таким идиотом! Тридцать семь страничек вся рукопись, полтора листа, за рецензию заплатят рубля четыре! Сотенные оставлял в «Варшаве», а здесь на копейки польстился! Воистину: жадность фраера сгубила. Не на меня нацеливались наглеющие представители отряда кошачьих, я давно был собственностью друга Васи, ревнивец от своего «объекта» отсекал всех любопытных, да и лубянковский казначей воспротивился бы. Они за рукописью охотились — и нарвались на меня, засекли, очередной ляп подвел меня. Отныне лицензия на отстрел меня не только у Васи, и пойду я в связке с теми, кто общался с покойным автором, да и притянут ко мне зава, унесшего ноги в Израиль.
Три недели спустя из редакции прозы «Знамени» пропали какие-то бумаги, порывом диссидентского ветра перелетели за океан, ревизии подвергся список рецензентов и вообще лиц, допущенных к рукописям. Меня, разумеется, вытурили немедленно, и «большой русский писатель» немало удивился, узнав, что, оказывается, по его рекомендации попал я в число рвачей, подставлявших ладошки под денежные струи и брызги.
Были бы они, жаждущие влаги ладошки, а струи найдутся.
Чудесный ноябрьский полдень, ядреный снег валил, похрустывал, веселил, до назначенного времени еще полчаса, в кафе универмага «Москва» выпит бокал неплохого вина: можно радоваться жизни, хоть и пришла пора прощаний с надеждами на лучшее. Кормиться окололитературной шелухой запрещено, и худшее — впереди, но ничто меня уже не страшило, потому что вокруг — понятные люди; ни одно НИИ никогда меня на работу не возьмет, по начальственным кабинетам ходит книга в серии «для служебного пользования» — особо доверенным лицам разрешалось читать эту серию, в ней правду-матушку не резали, а подавали голосами тех, кого клеймили и бичевали в центральной прессе. Какой-то тип с опереточной фамилией стал автором сочинения на темы, весьма близкие к биографии Матвея Кудеярова, и теперь публикация настоящего «Евангелия» за рубежом исключалась, возникла бы склока о плагиате. Книгу эту показал мне Василий, довольно потер руки, как после удачной работы, и не без воодушевления произнес: «Вот какую махину мы соорудили!»
Дважды опустошался бокал — и за махину, и за сегодняшнюю удачу: в 12.30 приглашен я к одному академику, который, по слухам, признал меня выдающимся стилистом. Я шел, полный веры в счастливый исход авантюры, затеянной мною в день, когда пальцы мои самостийно размахались и настукали «Евангелие от Матвея». Выживу! Прокормлю — и Анюту, и себя, и чудаковатых дмитровских стариков. И на «Арагви» хватит, и раздастся однажды звонок, открываю дверь — и стоит осыпанная снегом дева: иней на мохнатых ресницах, шевелящиеся губы, глаза, обещающие забрать Анюту из Дмитрова и родить ей братика.
Мечты, мечты, где ваша сладость, где вечная к ней…
Время истекало, пригласивший меня академик жил неподалеку, на улице Губкина. Туда и пошел.
Действительный член Академии наук, мужчина крепкий, плотный, вежливо-бесстрастный взгляд, седина, разумеется, благородная, квартира двухкомнатная, но не чета моей; кабинет в меньшей, где книги, стол, пишущая машинка, курить не предложено: ребенок, он на прогулке сейчас. Андрей Иванович — так называл себя хозяин — вполне удовлетворился моим рассказом: родители скончались, МИФИ, дочь у родственников погибшей супруги, писатель, благодарю за гостеприимство, кресло комфортное… Академик поднялся, принес кофе и после пустопорожней беседы приступил к главному. Его коллега перевел книгу одного американского ядерщика, где воздавалась хвала американской, естественно, науке, но заодно и отмечался безусловный профессионализм советских атомщиков. Научный редактор переводной книги — он, Андрей Иванович. Все бы ничего, но с американским ядерщиком лично у него дурные отношения, ни разу не встречались, друг друга ненавидят, перепалка идет на страницах журналов и сводится к тому, кто кого больше уест; претензий к переводу и содержанию быть не должно, однако надо каким-либо изысканным способом сказать о никчемности всех научных воззрений алабамского кретина, выразив это в «Предисловии к русскому изданию», которое обязан написать научный редактор и которое должно исказиться мною в заданных пределах.
Читать дальше