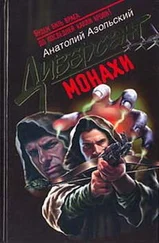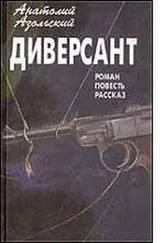В злобном молчании стоял я у двери… А потом рука моя по локоть забралась в стиральную машину, достала красную папку, затем извлекла из черной хвалебный отзыв, переложила его в красную, а саму ее — в портфель. Автобус, метро, десять минут хода — и редакторша наметанным глазом определила объем (12 а. л.), удостоверилась, что перед ней первый машинописный экземпляр, и решительно сказала, что дело теперь за рецензентами, пусть прочитают и напишут, что надо. Их, рецензентов, в штате и за штатом много, но как назло — ни одного, что называется, под рукой, потому что, сами понимаете, время такое, бархатный сезон. «Ага, — обрадовалась она. — Одна рецензия уже есть. Прекрасно!»
Дело сделано, папка вручена и помещена в шкаф, на первом листе текста поставлен штамп с датой, и если вдруг рукопись одобрят, еще 25 процентов загребу я в полюбившемся мне окошечке бухгалтерии.
Сделано дело — а стыд не покидал меня, он прошиб меня еще по пути к Миусской площади, как пот при сильном волнении. На душе скребли кошки, и в панике я бросился на Селезневскую, поближе к вытрезвителю, и завалился к своему рецензенту, к другу Василию, чтоб честно предупредить его о двух папках, о подмене, о подлоге, о грядущем провале, о том, что хвалебный отзыв литературного критика В. Савельева и та повесть, что сейчас в редакции, никак не стыкуются. Повесть, стращал я внимавшего мне критика, как небо и земля отличается от того дерьма, что читана им. Она будет отвергнута, это мне доподлинно известно, на меня обрушатся страшные беды. Мой герой Матвей Кудеяров — тип омерзительный, еще более омерзительны теории, коим сотоварищи Матвея поклонялись…
Мой друг и рецензент слушал широко раскрыв рот. Пораженный моим коварством, он даже не опрокинул рюмку водки, заблаговременно налитую. Ошеломленный, пришел наконец в себя. Стремительно оделся. Выскочил вместе со мной на улицу, замахал рукой, подзывая такси. Приехали ко мне. Он бегло глянул на книжные полки и шкафы, где — это важно для дальнейшего отметить и запомнить, — где ничего английского не стояло, поскольку, разозлясь на себя и Арчера, я, уходя, запендюрил хрестоматию в мусоропровод. Второй экземпляр рукописи, копия той, что отдана была редакторше, друг Вася прочитал запоем, как детектив, и едва не прослезился, обнимая меня: «Старик! Ты гений!»
Впервые он был у меня. Обошел квартиру, а точнее, обежал; глаза его и руки побывали во всех укромных местах, от туалета до ночного столика матери. «Негласный обыск возможен в любой момент! — шепотом предупредил он и указал на ковер, где висел старинный дуэльный пистолет. — Откуда? Кто? Чей?» Я путано объяснил: отец, выигрыш в карты. «Спрятать!» — приказано было. Сел на пуфик у тахты, принял роденовскую позу мыслителя. Бодро вскочил. «Об чем речь! — заблажил он. — Да чтоб отмазать тебя, я такую рецензию накатаю, что под нее премию Ленинского комсомола дадут!»
Затем он вонзил в меня пронзительный, прожигающий взор свой. Глаза его стали желтыми.
— Поклянись, — сдавленно произнес он, — что повесть только в двух экземплярах! Эта, которую я сейчас прочитал, а не прежняя!
Я поклялся — святым для меня именем дочери.
И еще одна клятва произнесена была: быть всегда вместе. Мы обнялись, как Герцен и Огарев, и пожелали друг другу мужества в нелегкой борьбе за истинную русскую литературу, за правду и справедливость. Клятва скрепилась тем, что Вася сунул второй экземпляр рукописи за пазуху и сказал, что спрячет его в надежном месте. Суррогатное же подобие биографии «пламенного» мы отнесли в молодежный журнал «Юность». Расстались у метро и повторили клятву. Я испытал необычайное облегчение, гора спала с плеч: о Политиздате можно забыть, рукопись моя упрячется в сейф на долгие-долгие годы, а второй экземпляр друг Вася замурует в стене. Со мной тоже покончено, меня расстреляли, повесили, удушили. Ракетчик пошел на литературный фронт и пал смертью храбрых, держа на лице доброжелательную улыбку идиота.
Но дней через десять — ожил я, и в светлых мыслях подвелись некоторые итоги. Работа над «пламенным» отбила у меня желание творить, я вообще разучился писать, зато понял наконец, как надо писать. И приобрел верного, надежного друга Василия Савельева. Вера в доброе будущее не оставляла меня, хотя чувствовал: теперь на меня натравят всех собак.
Перед отъездом в дальнюю, неизвестную и нелитературную жизнь навестил я дорогую дочуру, с радостью убедился: Анюта взрослеет и здоровеет, мысли ее заняты огородом, который кормит и воспитывает; на раскладном стульчике сидел я в садике, смотря, как трудолюбиво Анюта обихаживает грядку под какие-то семена. Ее приодели, теплая одежонка оберегала дочь от дождя и ветра, дед с подозрением оглядел привезенные мною кубики с буквами, внучку они приучили к иконе, на нее она посматривала с некоторым испугом; придет время — и будет креститься истово. В комнатке ее висел детского размера тулупчик, стояли наготове валеночки.
Читать дальше