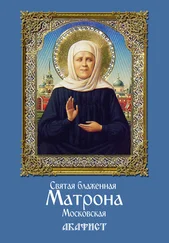В ту ночь ей долго не спалось. Она уже более трех недель не была в городе и ничего не знала о Доме. Потом, уже во сне, она оказалась в каком-то неизвестном месте, среди незнакомых людей. Все утопало в снегу, и в этой снежной стране она почему-то искала своего сына. Увидела его наконец: ребенок увяз в сугробе и махал руками, звал на помощь. Она бросилась к нему, но долго не могла пробиться. А он все глубже уходил в сугроб, и когда она добралась до него, мальчика уже не было видно. Она кричала, раскапывала снег, но сын исчез, лишь доносился его крик, но откуда, она никак не могла понять и начинала копать то в одном месте, то в другом, но все напрасно. Она звала его, он откликался, но найти друг друга они так и не смогли. Проснувшись в ужасе, она пролежала всю ночь, не сомкнув глаз.
Утром, едва забрезжило, она вышла из дома и пошла, проваливаясь, падая и поднимаясь, по девственному снегу в город. Обессиленная, она добралась до места только к вечеру. Гафи ужаснулась, увидев ее.
— Как мальчик? — спросила Матрона.
Помогая ей раздеться, снимая с нее обледеневшую одежду, Гафи стала рассказывать, что все нормально, мальчик здоров и все у него хорошо. Матрона успокоилась на миг, но тут же уловила какуюто скрытую тревогу в голосе подруги.
— Гафи, ты что-то скрываешь. Пусть я умру на твоих глазах, если не скажешь правду…
— Мне нечего от тебя скрывать, — с упреком ответила та.
Возвращаться в ночь она не решилась и осталась у Гафи. И чем дольше она была в ее доме, тем меньше верила ей. Гафи держалась с напускной веселостью, без конца вспоминала какие-то случаи из их общего детства, а Матрона, тревожась все больше и больше, смотрела на нее и уже не сомневалась: что-то случилось с ее мальчиком, что-то произошло.
— Гафи, — она перебила очередной рассказ подруги, — что с моим ребенком? Заклинаю тебя именем твоих детей, именем того, кто из этого дома ушел на фронт, именем Джерджи прошу — скажи мне правду!
Гафи не выдержала и заплакала.
— Что с ним случилось?
— Матрона, — только и могла произнести Гафи, — Матрона…
— Что случилось?
— Доме убежал из приюта…
В глазах у Матроны потемнело.
— И? — спросила она, заранее зная ответ Гафи.
— И нигде его не могут найти…
Свет померк для нее.
Свет померк, и мир навсегда стал для нее сумрачным.
Вот уже сорок лет она живет в сумрачном мире и давно перестала понимать саму себя. Знает лишь, что и сердце не всегда ладит с душой. Со временем собственная жизнь стала казаться ей наказанием Божьим: всего-то и радости осталось — поглядывая свысока на соседских женщин, на каждую в отдельности и на всех разом, кичиться пустой своей независимостью и свободой.
…Не прошло и двух недель со дня прихода Чатри и его гостя, как ей стало чудиться в себе что-то неладное. Она старалась не вспоминать о прошлом, не с начала своей жизни, конечно, а с тех пор, как исчез Доме. Ее разум больше не подчинялся ей. Стоило задуматься о чем-либо, как начинали слышаться чужие голоса, гомон людской, в котором не было места ее собственному слову. Иногда звучали и голоса близких, дорогих ей людей. Эти голоса властвовали над ней, вводили в трепет, в то состояние, когда она начинала ненавидеть саму себя. Они ставили ей в вину, возводили в смертный грех всю ее прошлую жизнь. И она, замирая, боялась той страшной двойственности, когда звучание родного голоса согревало ей душу, а смысл произнесенного поражал в самое сердце. Голоса ткали над ней серую паутину страха, и она жила в постоянном ожидании приговора: если близкие обходились с ней так сурово, проклиная и отрекаясь от нее, то чего же было ждать от других? И в то же время она понимала, что не столько боится самих голосов и тех, кто скрывается за ними, сколько того, в чем ее обвиняли. Она старалась не слышать, не думать об этом, ей хотелось забыть их, эти голоса, родные и желанные для ее слуха, отрешиться и жить сегодняшним днем, но она внимала им и помимо своей воли подтверждала их правоту, чувствуя себя ничтожной, готовой саму себя втоптать в грязь.
Она боялась, а испуганная душа ищет утешения, испуганное сердце держится на подпорках самооправданий, и она находила, придумывала их для себя. Она придумывала их, стараясь хоть за что-то зацепиться в этой жизни, и какое-то время сама в них верила, но продолжалось это недолго, все начиналось сначала и, отчаявшись, она созывала соседских женщин и устраивала шумную пирушку. Или произносила на людях что-то непристойное, непотребное, и это сразу же привлекало к ней внимание, и чувствуя косые взгляды и посмеиваясь в ответ, она забывалась на миг и вновь чувствовала радость вольной жизни. Все это могло отвлечь, но не вело к спасению. Когда сказанное ею доходило до ее собственного разума, и бесстыжие слова, провоцирующие ссоры и столкновения в селе, повторялись в памяти уже для самой себя, она готова была провалиться сквозь землю, понимая, что только добавила себе позора. И то же самое начинали говорить вновь зазвучавшие голоса, и ей уже не казались жалкими оскорбленные ею односельчане, жалкой становилась она сама. Те, кого она унизила только что, обескуражила своей дерзостью, теперь смотрели на нее как бы сверху вниз, и она злилась, уходила, искала укромное место и там ругалась сама с собой.
Читать дальше