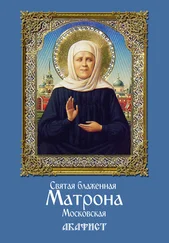— Матрона? — разом выдохнули женщины.
— Матрона, — подтвердил Бага. — Лает, как собака, и так машет патлами, что и сам черт бы испугался ее. А я все стою и смотрю. А она все лает и лает. Тогда я кашлянул. Как услышала она мой кашель, так вскочила и сгинула, будто и не было ее.
— Ой, беда на мою голову! — заволновалась жена Кола. — А я вчера вышла во двор, и кто-то на самом деле лаял! Да так заливисто.
— Замолчите! — рявкнул Кола и повернулся к Бага: — Я тебе знаешь, что скажу? Держи язык за зубами, не сплетничай, как баба. Оставьте эту женщину в покое.
Тут уж Матрона не выдержала.
— Ты собака, Бага, поганая собака! — закричала она через плетень. — Шляешься, как дворняга, валяешься на задворках, пьяные слюни распускаешь, а теперь еще и лаешь из подворотни? Да что же я такого вам сделала, что вы не даете мне жить? Неужто бедному человеку нет места среди вас? Хотите меня прогнать из села? Не дам я себя прогнать, не выйдет! — сердце ее сжалось, к горлу подкатил комок. — О если бы хоть хромой, хоть больной был сын у меня! Разве вы посмели бы тогда раскрыть свои рты? Вы только несчастного можете лягнуть… О если бы мой мальчик был со мной, — заплакала она. — Если бы он был со мной, вы бы даже смотреть в мою сторону боялись. Но подождите! — пригрозила она. — Он еще вам покажет!
Опять пойдут сплетни, подумала она, и сердце ее словно в соленую воду упало: нет ей избавления, судачат о ней и судачат, болтают, что в голову взбредет. В душе росла обида — беспризорной считают, знают, что никто не вступится, не защитит ее. Но, если разобраться, она давно уже привыкла к сплетням, не злилась, не скандалила и даже наоборот: с интересом выслушивала все, что о ней говорят. Еще и гордилась своей известностью: хотите вы того или нет, дорогие соседушки, а все равно болтаете обо мне, лезете в мою жизнь, и, значит, ваша собственная дополняется моей, и все мы одно целое, и за эти долгие годы так притерлись друг к другу, что теперь нас и водой не разлить. Нельзя сказать, что она старалась вызвать огонь на себя, но когда очередная сплетня исчерпывалась и наступало некоторое затишье, ей становилось как-то неуютно: в такие периоды она особенно остро ощущала свое одиночество. Сплетня стала как бы членом ее семьи, своим человеком в доме, и это давало ей возможность поговорить вечерком, про себя, конечно, но и словно вдвоем. Так что ничего вроде особенного и не случилось — ну разболтался Бага, пьяница, что с него взять, — но почему-то впервые за многие годы она почувствовала себя обиженной. С какой стороны ни посмотри, а за ней никого нет, ни родных, ни близких, ни друзей, потому-то и Бага такой смелый — даже он, ничтожество полное, может безнаказанно лягнуть ее. Где же она, родня ее, двоюродные и троюродные? Наверное, и для них она, как бельмо в глазу, потому и сторонятся. Стыдятся ее, боятся людского осуждения… Ей стало страшно от этой мысли. А близких у нее не осталось ни с ее стороны, ни со стороны мужа. Были дальние родственники, и было время, когда они не считали этот дом чужим, в минуты горя и в минуты радости вставали рядом, поддерживали. Но все это до смерти Джерджи. Потом — как ножом обрезало. Да и самого Джерджи они навещали не так уж часто. Беда никого не привлекает. Но бывали все же, приезжали, а теперь нет, отвернулись от нее. Но почему? Значит, и вправду стыдятся ее, делают вид, что она не имеет к ним никакого отношения, и позор ее их не касается… Неужели она пала так низко?
Сама довела себя — сердце болит, ком в горле, изо рта какойто отвратительный, резкий запах. Смрад настоящий. Поднимается, застит глаза, и все вокруг ей кажется мутным, серым, будто она сквозь грязную марлю смотрит. Засмотрелась — уронила в сыворотку только что слепленный круг сыра. Колыхнула котел, будто надеялась, что круг не развалился и сам выпрыгнет назад, ей в руки. Но нет — надо снова собирать его по крупинке. Господи, да она же всю жизнь делает сыр — почему же не подумала никогда, что все в этой жизни надо удерживать в руках, не то выскользнет, утечет между пальцами — и добро твое, и счастье, и сама жизнь. Упадет, разобьется — попробуй собрать потом. Если соберешь, оно останется вроде бы и твоим, но приглядишься — оно уже не то, другое. А если и вовсе нельзя собрать, что тогда? Позабыть? Не думать? Сердце, конечно, забывчиво, но оно может и вспомнить. А если уж что-то всплывет в твоей памяти, то не отвяжешься нипочем, останешься с этим навсегда. Тем более, если у тебя нет семейных забот и много свободного времени, Говорят, человек забывается за работой, но это неправда — от дум своих не убежишь, не спрячешься. А когда управляешься с хозяйством в полдня, а потом крутишься сам с собой, мысль твоя становится твоим врагом. Так что не ищи спасения ни днем, ни вечером, ни в работе, ни во сне, ни в бессоннице — спасения тебе нет. А что же делать? Будь у нее дети, много детей, она бы, старея, все больше и больше жила бы их жизнью, их заботами и надеждами. Но где они, дети? Нет ни детей, ни спасения.
Читать дальше