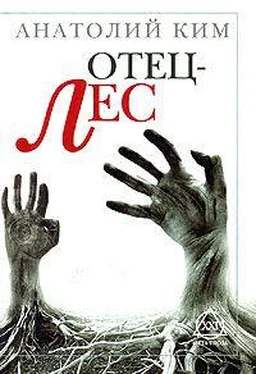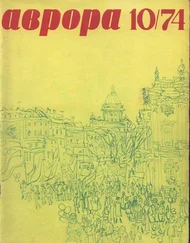— Николай Николаевич, миленький…
— Не называйте меня больше так, — властно, почти грубо произнёс Николай Тураев; но несколько смягчился и разрешил: — Если хотите непременно общаться со мной, называйте меня «человек». И вовсе не с большой буквы. Я теперь Никто. — Он смотрел при этом не на неё, а снова на меня: и в этой возможности видеть меня, как я его, и проявлялась та перемена в нём, которую он никак не называл, не обозначал для себя, но которой с великим философическим восторгом подчинился.
Итак, бессловесно и через один лишь обмен взглядами мы обрели друг друга и стали едины. Я тоже Никто — и мне столь же одиноко, как и в далёком прошлом — когда я был камнем, горячей плазмой, летящим в пространстве лучом. И когда мне предстоит снова стать горячей плазмой, камнем, лучом — смысл моих превращений всё равно для меня же самого остаётся неясным, туманно-грустным и тревожным. О если бы и на самом деле смерть — и полное прекращение моего одиночества! О если бы печатью своею она утвердила на моём негнущемся трупе: «Изменению не подлежит!»
Николай Тураев, повелевший старухе Козулиной называть его просто «человек», шагал вверх по Большому Сухаревскому переулку, заложив руки за спину и низко опустив голову. За ним шла, спотыкаясь на булыжнике, Вера Кузьминична, у неё было испуганное лицо, она мне внушает великую жалость, потому что положение у неё отчаянное, она доверилась внезапному призыву и порыву сердца почти незнакомого ей человека, а он вдруг вероломно отрёкся от неё. И то смущение, страх и унизительная скованность, в которых пребывает её душа, являются не просто ещё одними бросовыми и никакого значения не имеющими для человечества уязвлениями души, страданиями ещё одной оборванной старухи — сколько их на свете! — но они, эти старухины тревоги и отчаяние, являют в конкретном действии грозную математическую формулу той энергии, которая может погубить человеческий род на Земле. Этот великий род погибнет, уничтожив сам себя вопреки божественным законам жизненности, прекрасной причинности, если будет нанесено слишком много наглых и безответных обид людям людьми.
Я видел, как внезапно раскрывается перед человеком дверца одиночной камеры, в которой ему надлежит пребывать вплоть до последней минуты жизни. В эту камеру человек попадает, чтобы назад больше не выйти, — страдание и гниль, злоба и невыносимая боль, страх и безобразная лютость, боль и гниль, безобразие и зловоние, необходимость жрать других — и прочее, не менее прелестное, связанное с жизнью, становится известным будущему узнику камеры предварительного заключения, вернее, штрафного изолятора, куда смущённый Высший Законодатель запихивает ослепшего-прозревшего бунтовщика.
Я видел внутренности и клоаки того безрадостного и убогого сооружения, что называлось бараком жилой зоны, запертую на висячий замок входную дверь — вид у неё такой, словно это дверь склада или другого нежилого помещения, где люди бывают нечасто, где тишина амбарная, замогильная, шмыгают крысы. Но сразу же за дверью — крошечные сени с двумя вместительными бадьями-парашами, куда звучно шлёпается дерьмо, исторгаясь из скрюченных на краях бочек двух бедолаг, третий в нетерпении топчется рядом, держа обеими руками приуготовленные к действию, расстёгнутые штаны. Далее парашной опять-таки закуток, откуда вверх к казарменному помещению поднимаются две-три до ямок выщербленные ногами деревянные ступени, по сторонам которых, в неуютных карманах тамбура, стоят издёрганные топчанные койки. На них лежат, выставив к проходу скорченные спины, парии лагерного общества: ассенизатор Коврижкин и грязный, хуже Коврижкина пахнущий человек с женской кличкой Люська. Этих двух барачный класс узников не допустил до своего уровня, считая их погаными: Коврижкина потому, что он возил дерьмо, а здоровенного и придурочного парня Люську за его принадлежность к разряду неприкасаемых, тех самых, у которых пробиты дырки в кружках, мисках и ложках. И если Люська хотел, допустим, попить воды из бочки, то он подходил к общественному сосуду и, стоя в двух шагах от него, ждал, когда кто-нибудь подойдёт, попьёт сам и после соизволит перелить из своей кружки в дырявую, при этом стараясь ни в коем случае не коснуться её своей посудою и для того подымая кружку как можно выше над Люськиной. А тот (Люська) с тупым, смиренным видом покорной скотины тщится уловить вихляющую струю, падающую из кружки благодетеля, которою тот ещё и поваживал в воздухе, как бы непроизвольно содрогаясь от омерзения. В итоге благотворительной акции в дырявую кружку попадало несколько ложек воды, которую лагерный педераст Люська с нескрываемой жадностью выпивал, громко присасывая воздух губищами, а затем снова замирал у бочки, ожидая подхода следующего благодетеля.
Читать дальше