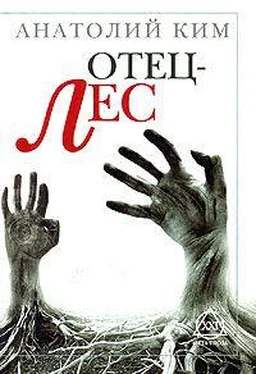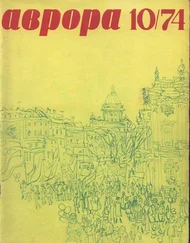— Ах, я бы туда поехала… Что же вас так держит в Касимове? — спрашивала старуха по-французски, произнося соответственно и название города: «Касимо?фф».
— Здесь я искал ваши следы… А в Гусе Железном была у меня с вами вторая в жизни встреча.
— Ах, вы опять о том… — старуха Козулина слабо махнула красной измозоленной рукою. — Вторая встреча? А когда же это было? Я не помню.
— У стены Баташовского подворья. О, много лет назад. Вы, были с розовым зонтиком.
— Этот зонтик, представьте себе, сохранился у меня! Я как-нибудь при случае покажу его… В моей жизни, знаете ли, произошли все катастрофы, какие только мыслимы в этом мире, и я теперь почти нищая, совсем одна, и мною помыкает грубая старуха, грозится выгнать вон, и я этого боюсь больше всего.
— В наше время всё то, что произошло с вами, со мной и с другими многими, вовсе не удивительно, Вера Кузьминична. Очевидно, Богу угодно, чтобы все люди до одного прошли через испытания, оказались несчастны. Кто был никем, тот станет всем. Кто был всем, станет, стало быть, никем.
И они, словно давние знакомые-приятели, поговорили о разных делах, совсем дальних и ближайших, связанных с новыми временами.
— Зинаида Баташова, восьмидесяти двух лет, — была расстреляна, расстреляна! Вы только подумайте, старуху!
— Милая Вера Кузьминична! — И далее Тураев опять перешёл на беглый французский: — Мир этот живёт не по законам Леса, а по законам Зверя. Свои взаимные проблемы предпочитаем мы решать с помощью быстрого кровопролития. Мы не умеем, сударыня, делить мирно жизненное пространство, как это делают деревья, вот в чём дело.
— Ах, ничего-то я в этом не смыслю, Николай Николаевич! Только одно я вам скажу — ни к какому кровопролитию лично я не имела никакого приближения. Я даже курицу зарезать не могу. За что Шура, моя хозяйка, смеётся надо мною и, когда бывает пьяна, даже щиплет и царапает меня, иногда и побьёт. Я ушла от большого богатства, а теперь выращиваю на огороде капусту, огурцы и помидоры, живу в каморке — вот теперь всё моё пространство… Однако я задержалась, мне идти пора! Надеюсь, мы встретимся с вами, о чём-нибудь ещё поговорим.
— Вера Кузьминична! — вдруг воскликнул он, выпрямившись, вскинув голову.
— Ай? — с оживлённой улыбкой на сморщенном лице быстро ответила Козулина, знакомо склонив голову к плечу и глядя снизу вверх на Николая Николаевича своими старыми раскисшими глазами.
— Вера Кузьминична, это очень смешно, что я вам скажу. Но выслушайте и не отвергайте… Я волнуюсь… Но это будет очень и очень правильно.
— Так что же, что, Николай Николаевич?
— Вера Кузьминична, поедемте вместе со мною в Москву. К моему брату. Он звал…
— Зачем это, Николай Николаевич?
— Предлагаю нам отныне быть вместе.
— Но я, батюшка мой, не знаю даже, что есть в вашей жизни, чего нет… И зачем это я с вами поеду, куда?
— Хуже не будет, Вера Кузьминична… Что у меня есть? Ничего нет. Ничего не было, кроме вас.
— Перестаньте сходить с ума, мы с вами не в романе, Николай Николаевич, — вновь заплакала старуха Козулина. — Когда вы полагаете ехать?
— Завтра, — со спокойною, тихой улыбкою проговорил Тураев. — Завтра вечерним пароходом. Приходите прямо на пристань.
— Ах, не знаю… Что-то я ничего не пойму. Прощайте, сударь.
— До завтра, Вера Кузьминична. Буду ждать. Не обманите же моих надежд, Вера Кузьминична. Я ведь вас всю жизнь прождал.
Таким образом внезапно свершилась та перемена в жизни, которую Николай Тураев давно желал и ждал. Но доселе, что бы ни происходило с ним или вокруг него, он спокойно отрешал это от себя, как нечто его не касающееся и никакой перемены не содержащее — но до последней встречи с постаревшей и впавшей в ничтожество возлюбленной его молодости. Эта неожиданная встреча открыла ему, что он давно свободен от всех долгов своей жизни, — да и никогда никому ничего не бывал должен, рабских уз никто на него не накладывал, и лишь по какому-то величайшему недоразумению он прожил долгие годы в добровольном рабстве. Свободной была его странная, необъяснимая любовь к этой женщине.
И он, одинокий мыслитель, вдоволь предающийся высокой философии, всегда был лишь сосудом самой вольной на свете любви. Ибо ничему она не подчинилась — как бывает подчинена обыкновенная человеческая любовь: здравому смыслу, долгу, семейному праву, времени, старости и усыпительному забвению. Сохранив же в себе любовь к этой женщине, он был свободен от всех остальных привязанностей, потому что они для него, оказывается, совершенно ничего не значили. Так проявилось, убедительно и жестоко, что мы, его дети, чужды для него и безразличны, как луне старая паутина в углу сарая. Я смотрел на эту луну сквозь пыльное стекло крошечного, об одно стёклышко, оконца, и мне было очень грустно, что это общее для всех нас, детей, родившихся от отца-барина, чувство небратства и безразличия друг к другу обязано происхождением своим прекрасному чувству нашего отца, любившего всю жизнь какую-то другую женщину, а не нашу мать.
Читать дальше