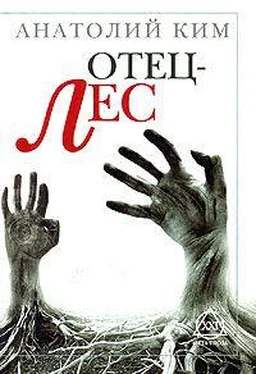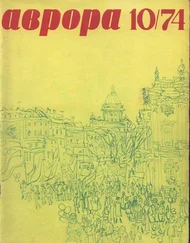Мне будет больно, разумеется, если одно поглотится другим — сомкнётся зелёная масса над сушею всех материков или человечье племя, не сумев обуздать своей алчности, порубит все вольные леса на земле. Вот же ведь беда какая у моих детей — необузданность главного чувства жизни! Зелёные кроткие философы, стоящие на одном месте, готовы размножаться до беспредельности! Одно какое-нибудь дерево тополя способно осеменить все свободные пустоши континента — а ведь их не так уж много, свободных пространств Деметры. Земля имеет определённую массу и, значит, ограниченное количество тех веществ, которые люди полагают необходимым и полезным для себя. Всех полезных веществ, значит, ограниченное количество — это с одной стороны, а с другой — беспредельность желания иметь, добыть, завладеть, которую можно математически обозначить только знаком?. Под натиском этого желания выстроилась вся недлинная, но вполне железная цепь человеческой истории. Начало этой цепи ржавеет в кровавых болотах архаических империй, конец оплавлен в огне неслыханных дотоле на земле температур, восходящих к температурам квазаров — Прометеев огонь оказался столь же испепеляющим, как и Зевесовы молнии!
И вот что представляется интересным в смысле полной безнадёжности: сказать им, добывающим полезное, что много добывать оного нехорошо, бессмысленно и преступно, так ведь как воззрятся на тебя! Формула цивилизации, избранной ими и подчинившей всех на Земле, выглядит кратко: ДОБЫТЬ БОЛЬШЕ. Каждый лист моих деревьев трепещет от страха, слыша этот торжествующий вопль приверженцев увеличения множества, не осознающих реальное значение своих побуждений. Алчность, возведённая до ранга священности, беспрерывное терзание внутренностей планеты, перемежающая лихорадка с золотом — всё это делает племя людей столь некрасивым, что я боюсь, как бы эта некрасивость и впрямь не убила его.
Но когда заклубится во мне безмерная горьковатая печаль, и покажется мне путь моих детей безнадежным, и высшая воля, данная им небом, направленною к полному беззаконию, и нет больше сил для обуздания их кровожадности, и смерть они сделали своей союзницей, пустили её орудовать, плясать промеж себя — словно взбесившуюся, взмывшую, как летающая тарелка, более никем не управляемую всемирную Циркулярку, с визгом влекомую энергией зла сквозь миллиардные толпы людские, сумасшедшую кромсательницу жизни, — и уже с помощью этой смерти дружные мёртвые успешно побивают своих мёртвых, и любовь бессмысленна, потому что она порождает уныние и отчаяние, а не самозабвенную радость — когда мне горько и гаснет моё творческое чувство, столь похожее на восходящее солнце, когда больше нет во мне любви к своим детям, а вскипает в душе одна сухая досада и ненависть к ним — тогда и выпускаю я полетать своего Змея-Горыныча.
Содержу его в каком-нибудь потухшем вулканчике, кормлю каменными глыбами с железистым содержанием, кидая их ему в кратер. И когда он разворчится, жадно накидываясь на еду, хлеща себя по бокам пламенным хвостом, и пойдёт из вулкана грохотание и лёгкий дымок, я усаживаюсь где-нибудь на соседней вершине и спокойно жду, пока зверь утихомирится, нажрётся и вновь уляжется спать. Тогда вновь закрываю жерло вулкана пробкою из цельной гранитной скалы и ухожу по своим делам. Зверина может подолгу сидеть на железнорудном корме, но время от времени и ему нужна более нежная пища, и тогда я, пользуясь тем, что где-нибудь опять началась большая война, подгоняю Змея-Горыныча к границам театра военных действий, где он начинает вольно пастись, подбирая с земли искореженную технику.
Начиная с тех времён, когда появились кольчуги, латы и тяжёлые воины, с головы до ног закованные в сталь, зверю на воинских пастбищах стало много пищи; а с эпохи машинизированного ведения войн разного металла столько собирается на местах битв, что мой ненасытный зверюга стал то и дело обжираться и, вновь запертый в старый вулкан, бился там и ревел и фекалил жидкой лавой. В результате чего участились случаи извержения давно потухших вулканов, особенно в последнее столетие — это случалось на Камчатке, на Гималаях, в Андах, — в укромных, отдалённых от людских скоплений местах, куда я старался загнать своего необузданного Змея.
В случае с двухметровой (а точнее — рост её составлял 2 м 16 см) знаменитой Царь-бабой Змей-Горыныч не то чтобы излишне залютовал или созорничал — нет, того не водилось за зверем в последнее время. Империалистическая война доставляла ему вдоволь корма, и он летал-то лениво, тяжело, словно перегруженный дирижабль, ползущий почти над самой землёй, — на этот раз дракон только что после очередной отсидки в кратере Авачинской сопки на Камчатке (помните извержение 16 июля 1916 года?) [1] Очевидно, здесь ошибка. В означенное время никакого извержения Авачи не происходило.
летел в сторону театра военных действий и по пути увидел на лесной дороге ничтожную капельку металла — рессорное и шинное железо, что везла Олёна из Гуся Железного на Воскресенскую ярмарку по лесной дороге, перевозила очередную кладь от завода к купчишке Сапунову, — и ни ящиков с железом, ни самого железа, ни рессор не стало — лишь обугленные дощечки остались да разбитый вдребезги задок телеги. Всё сожрало зверило, слизнуло на лету за один лишь выброс своего длинного огнемётного языка.
Читать дальше