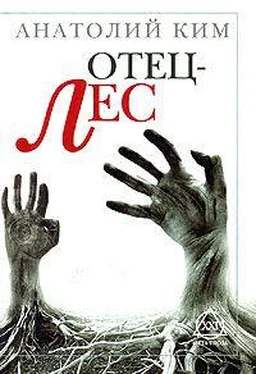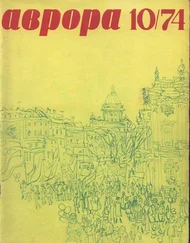В своё время ту же свободу обрёл его дед Николай Тураев. Он затаскивал на тарантас чудовищную Царь-бабу, Олёну Дмитревну, которая была в беспамятстве. Прошло семьдесят лет с того дня — и вот на месте, где покоилась нога бабы в огромном, как лубяной кузов, растрёпанном лапте, вырос ладный гриб с коричневой шляпкой. Нет, это не нога в лапте, превратившаяся в гриб, — это сам по себе молоденький белый гриб, и той ноги Олёны Дмитриевны за семьдесят лет уже не стало на земле, а могучая молчаливая тоска бабы развеялась во влажном воздухе леса и ушла в болотные огни… Занималась она извозом, в ту осень подрядилась доставлять к заводу уголь из леса, где в духовых кучах жгли древесный уголь закопчённые, лохматые черти, мужики из ближних деревень. В средние годы свои была Олёна ростом более двух метров, имела славную кличку, народное имечко Царь-бабы, и во всей округе не нашёлся бы мужик такой же силы и роста, как она. А супруг ей достался маленький и тщедушный, как мышонок.
Царь-баба валялась на сером, в зелёных пятнах придорожном мху, разбросав взлохмаченные лапти и выставив распирающую армяк холмистую грудь к небу. Глаза Олёны Дмитриевны были закрыты, руки ровнёнько сложены на животе, лошадь ушла недалече — шагах в тридцати забрела в теснину соснячка, там и застряла, — видимо, лошадка польстилась на свежую траву, заманчиво зеленевшую на небольшой лесной поляночке. Николай Николаевич завернул свою лошадь, подогнал телегу к лежавшей в беспамятстве Царь-бабе и попытался, хлопая по щекам, привести её в чувство, но всё оказалось безуспешным. Тогда и пришлось ему одному затаскивать на тележную кузовину Царь-бабу, а это было всё равно что затаскивать лошадь или быка, и поначалу у него ничего не получилось. Однако вскоре он придумал: в своей телеге он вёз ящик гвоздей, ими и сбил рамы из нарубленных слег и соорудил вокруг лежащей Царь-бабы что-то вроде станка для ковки лошадей. Затем просунул под лежащую Олёну Дмитриевну несколько штук ровных крепких жердин — на ровном расстоянии под членами распростёртого тела великанши, и начал подъём.
Но как только завершил он этот нелёгкий труд и стал водружать её свесившуюся огромную мясистую руку к ней на грудь, мимолётно дивясь белизне и красоте этой руки, как баба глубоко вздохнула и открыла глаза. Были они голубые, подернутые розоватой слезой, смотрели куда-то поверх него в небо, и он в досаде, что напрасно потратил столь много хороших гвоздей на сооружение подъёмного станка, не очень-то добросердечно молвил ей: «Ты чего это, Алёна, на дороге валяешься? Что случилось, голубушка?» — «Ох, барин Миколай Миколаич, это я, должно быть, оммороком упала», — ответила жалобным голосом Царь-баба, привставая в телеге и свешивая с боковины кузова огромнейшие ноги в разбитых лаптях. «А обморок по какой причине?» — продолжил он допытываться, дивясь её неожиданному ответу: уж кто-кто, а Царь-баба меньше всего походила на слабонервную барышню, которая то и дело падает в обморок.
Про эту Олёну было известно, что раз, ночуя где-то во время многодневного извоза, она проснулась оттого, что неизвестные ей пьяные мужики пытались узнать по ней, не «двухсбруйная» ли она, для чего прокрались в темноте к её лавке, двое взялись за её ноги, а третий, дыша ей в лицо кислой брагой, навалился и, вытянувшись на ней, прихватил её запястья. Олёна правой ногою двинула одного в живот, и тот, отлетев по воздуху к стене и ударившись об неё, мешком сполз на пол, а по другому мужику она не попала, увернулся он от её левой пятки и кошкою промелькнул к выходу. Ну а с тем, кто сам влез в её объятия, Царь-баба распорядилась в полную меру своей взыгравшей ярости. Она сначала с размаху потыкала его головою об лавку, на которой спала, а затем выбросила на снег сквозь двойные оконные рамы.
«Увидала я, Миколай Миколаич, летящего змея с огненным хвостом, взяла да и обмерла со страху-ти, — отвечала Олёна Дмитревна. — Летит он как раз над Княжовой дорогой, низенько так, над самыми деревьями, склонил головищу-то и вниз поглядывает… Я давай кнутом лошадь охаживать, а она у меня никогда не бегит, только шагом ходит, а тут я её в смерть колотю, она ж только хвостом крутит и пердит, бедная. Зачал тут змей заворачивать, смотрю на него, а он на меня смотрит, приметил сверху, значит. Тут уж, Миколай Миколаич, я в крик зашлась и дале ничё не помню…»
А была у России уже второй год война с Германией, и на своём западе Германия также воевала с соседями, и людей людьми было уничтожено великое множество, и я выпустил Змея-Горыныча полетать над землёю. Когда множится людской приплод, то уменьшается число деревьев земного леса, и наоборот, — когда вымирает людское число, племя за племенем, зелёный народ мой разрастается и медленной поступью выходит на заброшенные поля. Не мне выбирать меж ними, отдавая предпочтение кому-то одному, ведь равны предо мною все мои дети, будь они хвойными, узорчатолистыми, пальмовидными или чёрными, жёлтыми, зелёными, математиками, туркменами или сюрреалистами.
Читать дальше