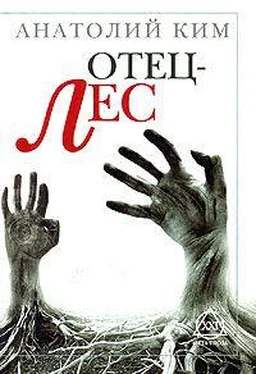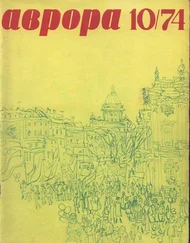Внимательно рассмотрел я, глядя сквозь огонь, одну маленькую деталь внешних событий: Анисьины дробные слёзы на её круглых щеках. И через эту деталь вдруг самым простым образом постиг смысл всего происходящего передо мною там, за пламенной стеной огня. Это была величайшая дозволенность тащить имущество, которое ранее считалось не твоим, это было дикое недоумение у того, кто считал себя хозяином этого имущества, глядя на то, как чужак с враждебной выгнутой спиною тащит шесть штук твоих венских стульев, взгромоздив их пирамидою один над другим — и вид тащителя при этом азартный, трудовой и уверенный.
На следующий день по сожжении усадьбы Николая Тураева мотяшовские мужики сожгли и дом Андрея Николаевича, старинную родовую усадьбу Тураевых. К Андрею Николаевичу, пользовавшемуся большим почтением у крестьян, доброхоты приходили предупредить о предстоящем заранее, так что хозяин смог бы спасти и вывезти из усадьбы много добра. Но он до последнего часа не верил, что столь любящие его мужики способны совершить подлость, Тамара Евгеньевна была того же мнения — так что, когда в сумерках зашли во двор мужики с двумя вёдрами керосина, бездетные супруги ничего толком не успели взять и ушли из дома лишь с небольшим баульчиком.
А на следующее утро в село приехал на крестьянской подводе Николай с семьёю и застал брата с невесткой сидящими на скамье под липами, перед кучей обгорелых брёвен, во что превратилось родовое гнездо Тураевых. Пожарище ещё курилось голубоватым кудрявым дымом, ветер сносил его к уцелевшей садовой скамье, выкрашенной зелёной масляной краской, дым был едким, горьким, и представлялось мне, что это от него столь опухли и стали красными глаза у Тамары Евгеньевны. Николай Николаевич оставил жену с детьми сидеть на заваленной узлами телеге, а сам подошёл к скамейке и опустился на неё рядом с невесткой. Она почему-то с виноватым видом посмотрела на него и с привычной чопорностью, столь жалкой теперь, протянула ему руку и молвила:
— Слыханное ли дело, Николай… Вот, сожгли и нас мужики.
— Всё равно я народ не виню, — перебил жену Андрей, произнося слова безжизненным деревянным голосом — сейчас особенно чёрствым и безжизненным. — Народ не виноват, это мы виноваты.
— Какой народ, братушка? — ответил Николай. — Грабители это, а не народ… Это мы с тобой теперь народ, потому что мы — обездоленные. Ведь так выходит по твоим понятиям? Народ — значит обездоленные…
— Не будем спорить, — устало отмахнулся Андрей. — Чего стоят теперь наши споры. Революция пришла, новые силы всколыхнулись.
— Насилие пришло, новые грабители всколыхнулись, — ядовито вторил Николай. — И теперь можешь быть уверенным: народ твой возлюбленный испытает такое на своей шкуре, — и он показал кнутовищем на свою семью, испуганно замершую на телеге, — что не раз вспомнится нам и фараоново рабство, и российская крепость. — И он показал при этом почему-то на пожарище. — Но в данное время я согласен с тобою: не время, брат, спорить.
И однако, они тут же заспорили, вскочив с места и размахивая руками в виду своих жён, отупевших от горя. Андрей стоял на месте, выпятив грудь, Николай же сердито прохаживался перед ним туда и сюда, хлопал яблоневым кнутовищем по сапогу. Спорили обыкновенно, как должно было спорить русским людям, подверженным всяческой мыслительности, и мне, струйкою дыма вылетевшему из-под угольного бревна и вмиг внедрившемуся в возбужденные очи спорящих братьев, было видно в каждом из них фатального неудачника, исконного русского идеалиста, хотя один из них мог величать себя поборником социализма, а другой — считать свою самобытность несуществующей и назвавший в конце концов себя самого весьма конкретным именем: Никто. Оба они заморгали часто, у обоих ресницы увлажнились слёзами, вызванными воздействием едкого дыма, но никто из них не обратил на то внимания.
И я уже с великим удивлением гляжу на своего братца Николая, этого лесного философа, который совсем ведь недавно ядовито клеймил в своём лесу, отмахиваясь от комаров, весь омерзительный механизм монархической государственности, пророчил близкое возмездие со стороны бесправных народных масс — и вдруг такая разгневанная несимпатия к революционным надвинувшимся фактам. Неужели же имущество, отнятое у тебя, стало причиной твоих столь быстрых переоценок, бросил я Николаю. А у самого глаза стали совсем мокрыми — выходило, что я плачу, произнося свои слова презрения.
Читать дальше