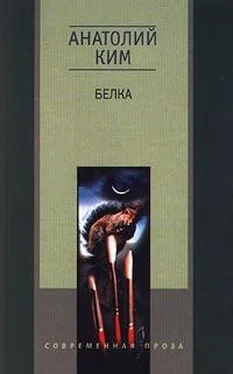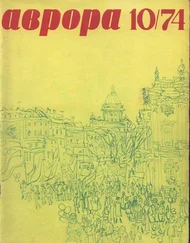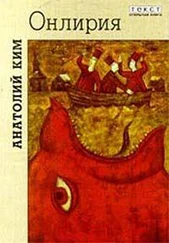— А сама она? Вам это не страшно?
— В этом мы привычные люди. Работа наша такая. А вот вы-то зачем рисуете? Что же тут красивого?
— Ничего. Но здесь вся правда! Вот она лежит, грязная, вонючая, и умирает, подыхает, как собака, она мучительно подыхает, сестра, вы понимаете? Слышите, как она дышит? Так зачем, зачем все нужно было? — БЛЕСК ГОЛУБОЙ, СПЛОШНОЙ ЗА КРЫЛЬЯМИ ВЗЛЕТЕВШИХ КУРОПАТОК, ПОТ МАТЕРИНСКИЙ НА ЛИЦЕ ЕЕ, КОГДА ОНА ТАЩИЛА ПАРУ ЗДОРОВЕННЫХ РЫБИН, ЛОСОСЕЙ СЕРЕБРИСТЫХ; ДОРОГА, ПЫЛЬ, СЛЕД МАТЕРИНСКИХ НОГ, ТВОИ ПОСЛЕДНИЕ ПРЫЖКИ, ЛИСИЦА, И СЛАДКИЙ АРОМАТ ОБЪЯТИЙ, И НЕЗНАКОМЫЙ ЛЕС, ДОРОГА МЕЖДУ СОСНАМИ, ХОЛМ ДЕВИЧЬЕЙ ОДЕЖДЫ, НЕБРЕЖНО БРОШЕННОЙ НА СКЛОНЕ БЕЛОЙ ДЮНЫ, СНОВА МАТЬ, ОНА КАРТОШКУ РОЕТ ВИЛАМИ, И ПЛАЧЕТ, И УТИРАЕТ НОС РУКОЮ, ЗАТЕМ, НАГНУВШИСЬ, СМОРКАЕТСЯ И ВЫБИРАЕТ ИЗ ЗЕМЛИ ШЕРШАВЫЕ БАГРОВО-ФИОЛЕТОВЫЕ КЛУБНИ, БРОСАЕТ ИХ В ВЕДРО. ЗАЧЕМ?.. — Что ж, я надеюсь, вы не забудете о простынях, сестра.
Она ушла — и в этот же вечер, уже при свете электричества, снова пришла из пурги, из влажной белой мглы ее, из сатанинского воя, судорог и нечестивого трепета внешнего мира, сняла свое голубое пальто, лисью шапку, стряхнула снег возле печки, повесила одежду на вешалку и, повернувшись, с улыбкой торжества дала ему полюбоваться своей румяной, прохладной, промытой метельными струями красотою, коротким платьем с желтыми розами, алой гипюровой кофтой-накидкой и красными, даже сквозь капроновые чулки, полными, нежными коленями стройных ног, шустро выскочивших из черных валенок. Лохов с рассеянным удивлением смотрел, как она уверенно, спокойно прошла в одних чулках по тусклому крашеному полу, подошла к кровати, бросила беглый взгляд на лежавшую, отвернулась и пошла к печке знакомым уже для Лохова способом греть руки, колени, спину. Нежный запах нарциссов, смешанный с запахом талого снега и еще не задохшегося холода, тянулся благовонной струей вслед за нею по комнате.
— Вашу просьбу я выполнила, как обещала, — свежим голоском молвила она, заводя руки назад, руками же отстраняясь от печки, чтобы не выпачкать гипюровый алый наряд мелом и сажею трещин. — А вы, если я попрошу?..
— Чего?
— Хочу, чтобы вы меня нарисовали.
— И для этого так нарядились?
— Вам что, не нравится? — ответила она, удивленная суровым тоном Лохова.
— Наверное, нравится… И вы свежая, красивая, соблазнительная девушка, должно быть.
— Что это все значит: «должно быть», «наверное»… Вы что, так шутите или глазам своим не верите?
— Могу ли я шутить, девушка? Я просто не понимаю, где я и что со мною. Два дня и две ночи я не спал… вот моя мать лежит, не слышит меня. Много лет мы не виделись. А вы… (Это ты, рыжая лиса, лежишь на снегу, оскалив зубы?) До шуток ли мне.
— Ну так ложитесь, поспите. А я посижу, так и быть, подежурю, сменю ей белье.
— Спасибо… Спать? Должно быть, я не смогу. Мне кажется, что я достиг такого состояния, когда уже и спать-то незачем, и бодрствовать невыносимо. Бессонница в глухую ночь… Ты словно тихо, незаметно проходишь призрачную дверь и входишь в каземат безвременья, где нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, все клубится воедино туманом серым, горячим облаком тоски и отвращения к жизни, откуда выступит вдруг мокрыми углами тяжелый камень, скала, из трещины которой лезет вереск в розовых цветочках. Шевелится на вереске огромный шмель и явственно гудит хоралом из баховских «Страстей по Иоанну…». Зачем заглядывать в пределы зыбкие, откуда, словно дым, струится ядовитый пар бессонницы — не нужно, право… Я лучше с примерной твердостью скажу, отбросив всякое сомнение, что верю в слабый разум свой, как верят дети в чудо, и, если даже он ошибка Бога, его промашка и моя погибель, мне больше — говоря по чести — и уповать-то не на что. Вчера ли я был в Японии? Или буду когда-нибудь там, приведенный туда необоримой волей и любопытством к жизни? В снегу ль по пояс я сижу у могилы матери или на шатком стуле у ее смертного ложа? И ты, Медицинская Сестра, скажи, ведь это ты была рыжая лиса?
— Берите простыни вот так за углы, расправьте и подводите край под нее, а я поверну ее на бок… нет, вы сами не сумеете, сделаете ей больно… Подсуньте поглубже. Так, теперь берите ее… под шейку и под коленки, так… еще немного передвиньте на себя… на себя… А теперь снимайте с нее рубашку, я опять буду руки держать… Чего вы стоите, как столб? Задирайте за подол, не стесняйтесь, ведь вы ее сын.
И они переодели ее в чистую длинную рубаху. Сестра завязала прошитые тесемки аккуратным бантиком на груди, пригладила бестрепетной рукою этот бантик, любуясь своей работой, а он стоял рядом, вытянувшись, словно солдат перед офицером, и в его глазах застыло — отныне и до конца дней его — белое нагое погибающее тело матери. Он впервые увидел ее в таком ужасном обличье — собственноручно был сорван им покров тайны, и перед сыном оказалась жалкая плоть старой родительницы его. Но Лохова ужаснула не беспомощность обреченного тела и даже не признаки мучительного страдания его на рабочем столе смерти, ясно видимые в скорченной неподвижной фигуре матери, а невинная чистота и младенческая миловидность этого тела. Вид его был невыносим, ибо великая невинность ее даже в час истязания смертью заставляла беспамятную женщину крепко сжимать колени, уберегать от толчков больную руку и исходить неслышными скупыми слезами последнего плача.
Читать дальше