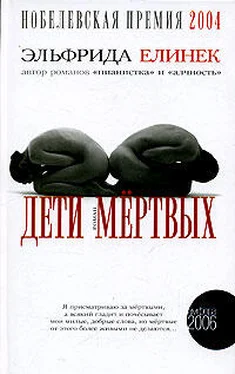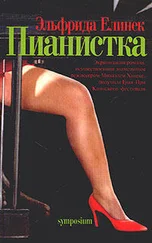Гудрун безутешна, потому что стоит ей только прилечь, как через неё пролегает эта тёмная, вырванная у земли пустошь, но так и не приходит мгновение, которое она могла бы удержать. Она пытается позвать на помощь своих спутников, которые сплошь неходибельны, поскольку заключены в книгах. Мысли торопливо подбегают к ней, как жуки-олени, но их клешни ничего не ухватывают в этом окаменении, где даже окаменелости ещё охраняются от того, чтобы их предали земле. Каждый там спит сам по себе. За лбом прячутся камни памяти, но на них ничего не написано. Все надписи стёрты, самое позднее с лета, когда были отправлены последние машины, гружённые людьми. Они были изгнаны из страны детства, с площадки пикника жизни и пригнаны нашими дедушками и бабушками сюда, в деревянное море бараков без окон; штучный товар тут накалывается под забывчивым электрическим светом, — свет, это волновое волшебство, эта холодная завивка мыслей, они плывут, как облака, но не освещают ничего, что не было бы видимостью. Если мы перестаём о чём-то думать, то оно от нас уходит, что, может быть, лучше, чем если бы оно уходило вместе с нами, мешая нашему побегу, да ещё и вентилируя, как мы, после доступа свежего воздуха и наступившего за этим прояснения, могли бы выбрасывать новые горящие бренды, которые на воздухе, на свободе, которой мы наконец достигли, разгорались бы ещё веселее, чем прежде. Контролёр на это ничего не скажет. Он, как и мы, связан своей подписью под договором аренды (но по этому договору на сей раз арендован он сам). И теперь скажите мне, почему Гудрун Б. нашла себе такую тесную квартиру, если её дедушка с бабушкой, эти суперстарские ребята, ещё на славу погуляли на этих просторах. Дедушка покидал на пол нескольких человек и не поднял их. Он потом ещё пять дней оставался в одном местечке, поскольку вначале не было транспорта для перевозки людей, в который влезло бы примерно триста человек. Свет выламывается из них, давя при этом на глазные яблоки, чтобы видеть, как они были устроены, прежде чем это с ними произошло. Теперь остались лишь пустые ящики. Покрасневшие по краям облака, как усталые от чтения глаза, тень от ужасных пожаров на небе, о которых нам не придётся жалеть, потому что себя-то мы застраховали тем, что в бегстве будем держать от себя подальше наши жаркие одежды и наши горящие от алчности шкуры, как пелерину от дождя, чтобы нас не забило градом и мы не стали забитыми. Это значит, что любой мог бы влезть в нашу шкуру и чувствовать то же, что и мы. Бедная Гудрун, именно это с ней и случилось; боюсь, и теперь её гоняет по событиям, валяет в собственной крови, приправленной ванной горячей воды: своё знание она забыла, своё происхождение она не любит, и теперь её извлекут и исчерпают в судок. Потом будет судный день, наше исконное творение. Эта страна исчерпывает себя со страстью и печатает себя на проспектах! Стоит лишь взглянуть, что она сделала со многими своими творцами! Она их — любя — доела целиком, без остатка. Каждый должен сам следить за тем, чтобы не остаться, когда его поезд уйдёт.
Быть вечно прибывающей, как Гудрун здесь, в пансионе «Альпийская роза», где она со своей юностью — исключение, которое подчиняется правилам месячного цикла, поэтому пожилые смотрят на неё с подозрением, как бы она не отняла у них последние остатки жизни и не скрошила птичкам. Зависть. Ревность. Недоверие. И почему это старые больше ума не приложат, как сделать человека и красиво подать его, чтобы другие могли дотянуться до него руками? Людям всегда недоставало уважения к простейшим телесным отправлениям. Псы мысли тявкают с шезлонгов в саду на окно, которое распахнула Гудрун и высунулась, глубоко вдыхая; они бегут, высунув язык, за разгорячёнными псицами жажды жизни, которые поворачиваются задом к старым женщинам, тщетно силящимся скрыть от мира свои рыхлые животы. Никто отсюда не бежит, все приехали сюда добровольно. Комната пансионата с тяжёлым вздохом опустилась и вытянула ноги вперёд. Снаружи будни, даже шумы будничные. Родина показывает свои особенности, которые являются её собственностью, а гости тем временем так расслабились, что даже дают заглянуть в их семейную жизнь, раскрывая дверцы своих машин, ближе которых у них никого нет. Но и машины иногда их раскрывают. А что мы делаем с чужими, которые, со свидетельством беженца в кулаке, ждут на краю поляны, когда кто-нибудь откроет им дверь к нашему ландшафту? Даже за осмотр надо платить, но это не считается, как объявила в своём тарантасе княгиня, сильная женщина, в отличие от её пугливо замкнутых крепостных, — вот ведь фокус, ей принадлежит здесь всё, насколько хватает глаз, а она не хочет продать пару мелких участков и запланированный здесь канатный подъёмник. Это не считается, хоть ей это даром не пройдёт, она видит правду насквозь и своего на волю не упустит, чтобы оно не досталось врагу. Они бы и огнём сгорели, и духу бы их здесь не было, но почему-то не делают этого. Эта тонкая, проницательная женщина хочет покоя, тем более перед бурей.
Читать дальше