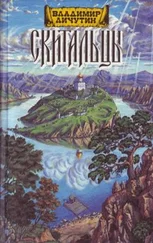Ну, а крыльцо выдает не только достаток в житье, но и хозяйский норов, его расположение к человечьему сословию. Смешно будет, коли к избенке, похожей на воронье гнездо, крытой березовой драною, с волоковыми оконцами и топящейся еще по-черному (таких, слава богу, народ нынче не видит, но еще в начале века они водились по берегам таежных рек), да придать княжее крыльцо с точеными балясинами, с полотенцами и прочей резной канителью, наведенной умелой плотницкой рукой: тут уж каждый кому не лень обсмеет и тыкать начнет прилюдно пальцем и крутить у виска – дескать, ну и дурак человек, без царя в голове.
Созонт похвалебщиком был великим на деревне, он и избу в два жила поднял, оконца хоть и не великие, но каждое в восемь стекол с тетрадный лист, карнизы свесил витые, фитюлька к фитюльке, – убил не один вечер, и три полотенца спустил, навел длинный сквозной узор из солнц, и ставенки посадил на шарнирах; но на хватило у мужика характера на князек, чтобы достойно избу завершить, да на крыльцо. И так случается порою: все приспособит человек в хозяйстве, останется лишь деревянную спицу забить у двери, чтобы было куда шапку накинуть, но так всю жизнь и не соберется, не найдет времени на этакую малость. Подобное случилось и с Созонтом. Увозили его в Вазицу шкуну шить, и в спешке залазил мужик три здоровенные смолевые плахи, сверху шатровым навесом прикрыл от дождя – вот и гостевое крыльцо, милости просим. Потом уж, когда охладел к дому, рассуждал: а так выгодней, ближе к земле, ловчей падать, коли во хмелю придется. И угадал, как в воду глядел, от сыновьей руки пришлось лететь: грянулся он тогда о землю, приподнял тяжелую от вина голову, сказал только: «Ну и сын» – и тут же уснул под изгородью.
Выстояло крыльцо свой век: отсюда и мать снесли на погост, и отца, сыновья и дочери друг по дружке покинули дом, а после и Полюшка, через проклятье впервые взошедшая на него, отплыла на родовой жальник. С него и Геласия однажды свергли обидно: пришел забирать после драки с Разрухой вазицкий милиционер Ваня Тяпуев (сопляк-недомерок, но при власти) и без лишних слов ударил в бровь чем-то тяжелым – наверное, наганом (с той поры жив белесый шрамик), а после отвел в холодную и больно навозил по бокам. Знать, сила силу берет: из века в век так ведется. В году пятьдесят шестом встретил его в Архангельске. Потяжелел мужик, глаза холодные, шильцами, но руку первый подал. Спросил его Геласий: «Ты зачем меня пинал тогда?» – насупился, а глаз не отвел: больной взгляд белесоватых глаз, на дне которых вкрапились порошинки зрачков.
Куда денешься от воспоминаний? Они сильнее человечей воли и, чем дальше во времени, тем яснее встают в памяти. Теперь и эти три плахи, с которых совсем недавно свернулся Геласий и потерял лужу крови, казались высокими. С задышкой поднялся, дверь в сени распахнул и оставил настежь. Вытертая широкая лестница вела на второе жило, кованая скоба вбита у подножия. Помнится, когда, перетаскав весь скарб к себе наверх, мать мстительно понесла и черную доску Николы Поморского, но запнулась о скобу и досадно растянулась, а после от боли и горечи долго плакала, скулила на лестнице, дожидаясь, что вот-вот покажется своевольный сын и преклонит колени. Но, однако, в душе с опаской шевельнулось: значит, есть верховный над всеми нами, и он доглядает. Сидела и невольно скорбела, что так неладно все приключилось, и виноватилась тайком за недавние громовые слова. Пред этим же Николой минуту назад вскричала запальчиво: «Стою перед иконой и кляну сына: будь ты проклят от меня, дитя...» Вот и отозвалось, вот и отмстилось. А и он хорош, нечего сказать. Уж головы не склонит лишний раз, перед маменькой не покается. Оправдывалась перед тем, кто видел все и все понимал. Чуяла баба, что близко где-то он, всеверховный, будто бы в самой ее душе и живет... На какую-то вонькую козлуху мать родную променял: мою титьку чукал, на моем молоке взошел, а тут вдруг незваный явился из горенки и дерзнул: «И ты мне отныне не мать...» Ну она погорячилась, леший дернул за язык, а он-то, Геласьюшко, зачем так больно ударил. Хоть бы разик смолчал.
Слушала женщина тишину, ждала примиренья и саму себя уже готовно исказнила за шальной язык.
Уж после, как хозяин Созонт умер, во всем повинилась перед сыном, и не было, наверное, во всем свете свекрови лучше и доброраднее ее. Пелагея, невестка, так и говорила всем на деревне: «Я за мамушкой-свекровушкой ныне, как за каменной стеной». Но зачем тогда, по какой нужде неиспепелимой меж самыми-то кровниками завелся поначалу столь громкий и неутомимый бой, кто рассудит? Ведь даже в волчьей стае мать свое дитя не даст на загрызание и ради него готова лечь пот топор. А в ней, в человечьей-то породе, в любое мгновение может завестись такая порча, такую лохань помоев и желчи выльют друг на друга давно ли еще мирные сродники, такую смерть мысленно уготовят, а то и свершат, что и представить страшно...
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу