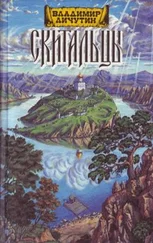– Насовсем, что ли?
– Как примешь, сын... Ну, коли здорово, ребятёшки, – поясно поклонилась Домна, прижав руку к сердцу, дескать, от всей души желаю всякого добра вам. А сама так пристально на сына взглянула, в поблеклых глазах открылась такая укоризна, еще более непереносимая от легкой туманной слезы, что Радюшин виновато поникнул, как бывало в детстве, и кирпичные скулы кисло дернулись. Тык-мык, а слова в горле застряли, подходящего не отыскать с лета, а потому задумал все на шутку свести и снова босой ногой пехнул материн фанерный чемоданчик с деревянной затычкой в проушинах вместо замка:
– Гостинца-то привезла?
– Погляжу на твое поведенье. Грозный вот больно. – А сама меж тем ловко растормошила поклажу, добыла замотанный шерстяной ниткой свиток глянцевых бумаг да иконку божьей матери, да из холщовой тряпицы вызволила пирог рыбный с черной коркой, каменно легший на стол. – Вот подорожничек, сын. Испробуй, на чем вырос. Житний подорожничек-то, небось вкусу забыл. Все мяконько да бело едите. А бывало, житничку-то ой рады-радехоньки...
Невестка Нюра так и шила из кухни да в горницу, таскала тарелки с закусками. Румянец пробился на щеках, и глаза посветлели.
– Мама, ну как хорошо, что приехала. – Приговаривала каждый раз, появляясь возле стола, а ловила, однако, мужний взгляд и все виновато улыбалась жалконько так. Ну что бы хоть посмотреть в ее сторону, так нет, набычился, упырь, словно бы провинилась она в чем. И так изо дня на день. Ну как тут жить?
– Насовсем? Вещичек, гляжу, мало. – Еще неотмякшим голосом домогался Радюшин, наблюдая за матерью, и по той суетливости, с какой разбирались пожитки, понял, что мать снова временна в их доме. Тут что-то похожее на обиду замутилось внутри, и он вспылил: – Туда-сюда, туда-сюда. Чего крутить-то, спрашивается?
Но Домнушка вроде бы и не слыхала сыновьих укоризненных слов, а только низко кланялась, прижав ладонь к сердцу:
– У меня добра-то, Николаюшко, нажи-то-о!.. В комодишке-то сарафанишек всяких, да юбочонок, да платьишка. Немодно, правда, но хорошо, из сроку не вышло. Что подарено вами, все у места, не заваляно. Несовестно будет и после меня носить. И фуфайчонка-то, парень, у меня нова еще, и пальтюшонко есть – куда с добром, а на книжке схоронной девяносто семь рубликов скоплено на поминки, чтобы вам не тратиться. Во мати какая у тебя, Колюня. – Говорила Домнушка часто и без грудной тяжести, а в пепельных глазах постоянно катились смешливые горошины, и две кудельки волос, похожие на гусиный пух, выбившись из-под черного повойника, вздрагивали на впалых висках при каждом слове. – У твоей у матери, Николай Степанович, ныне одна забота – чтобы вовремя умереть, да чтобы наплакались все, уревелись. А уж как належишься на кровати, никому не нужна станешь – тут и не поплачут сердечно, тут рады будут в могилку спехнуть.
– Аха... Так и сделаем, – вроде бы пошутил Радюшин, а сам сморщился, потускнел.
– Ой-ё-ё, сынок. Всяк человек своей хитростью живет. Нет человека, Коляня, каковой бы своей хитростью не жил. Вот и я хитрю, чтобы людям лишней заботы не принесть. Мы-то, стары пошехонки, никому теперь не нужны, обуза одна. Сердчишко, Коля, у твоей мамки нынь худо-нахудо, только язычок живо треплется.
На словах плачется Домнушка, но, однако, и минуты не усидит на месте, все у нее забота какая-то на душе, и руки не живут покойно. Вот и для иконки место нашла в углу, взглянула мельком на сына, от любопытства, а тот смолчал, сделал вид, что ничего не случилось, и за темную доску сунула сверток с бумагами.
– Там-то еще что... Векселя иль завещание?
– Во, Николай Степанович, гли, милушка! Это все у матери грамотёшки. – Добыта тугую бумажную колотушку, обвитую шерстяной ниткой, развязала и раскинула на столе подле тарелок и словно бы забыта на глянцевой, траченной сыростью бумаге свои удивительно маленькие ладошки с просторно обвисшей кожей. – Три десятка было надавано за работу.
– Ну ладно, сворачивай свое добро, да ужинать надо, – хмуро буркнул Радюшин. Согласен быт с материными словами и сам не раз кричал их распаленно в пьяном застолье, но тут почему-то досаду услышал в себе и потому возразил: – Сама работала, никто не тянул.
– Ты не строжись, сынок, не злобись. Я нынь вольня птица, на шею к тебе не сяду. Захочу – и замуж вылечу. Слыхала, Геласий Созонтович овдовел. Вот и старичишко, вот и затулье. – Катаются в Домнушкиных глазах смешливые горошины, но сыновье лицо от материных слов еще более обрюзгло и багрово палилось. Спрятал Радюшин азиатские глаза, и кулаки, такие пудовые оковалки, вздрогнули на столешне. Заматерел мужик, тяжел и мясист стал. Тоска скользнула на дне Домнушкиных глаз, и неприязнь услышала старая к сыну, и жалость:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу