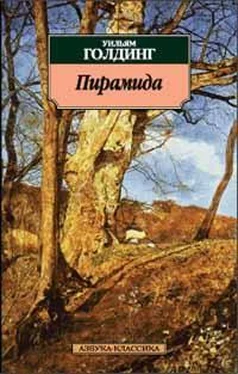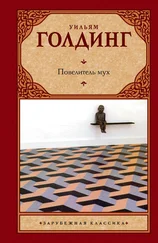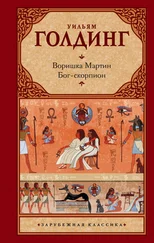— Да, завтра тебе идти на музыку. Но у тебя и химия завтра!
— Ну, пап. Сам-то ты ведь учился на скрипке?
— Скрипка никогда не вставала между мной и Materia Medica. Оливер, ты, кажется, не хочешь учиться в Оксфорде?
— Хочу, конечно.
— Эти последние месяцы — такие важные, детка, — заклинающе вставила мама. — Ты же знаешь, мы только хотим, как тебе лучше.
Годами вколачиваемая мысль насчет постыдности моей мечты о музыкальной карьере заставила меня прикусить язык. Будто прочитав мои мысли, папа ласково глянул на меня через стол. Если бы он хоть сердился, я бы мог за себя постоять. Но голос его звучал сочувственно, проникновенно, будто мы оба столкнулись с железной необходимостью:
— Оставь это в качестве хобби, вот как я, например. И вообще — граммофон и радио скоро многих профессиональных музыкантов пустят по миру. Господи Боже, ну как ты сам не понимаешь, Оливер? С твоими способностями ты мог бы доктором стать!
Нелегко было мне признаться Пружинке, что к диплому готовиться больше не надо. Но она почти ничего не сказала, только тряхнула головой, будто другого и не ждала. Уроки наши снова стали пустой тратой времени. Времени впустую тратилось теперь даже больше, потому что скандалы достигли критической точки. Генри мягко, но решительно ускользал из прихожей в темном двубортном костюме с двумя самописками в нагрудном кармане, оставляя за собой разбушевавшийся костер.
— И вы, получается, мне ничего не должны!
— Сколько брали, все отдали!
И все равно они не съезжали.
— Не желаю терпеть его в своем доме! Отвратительный, мерзкий мальчишка! Он же над ней издевался...
Наступил и окончился последний урок. И вот после нервного лета я наконец, счастливо замирая, складывал вещи для Оксфорда. Только уже вечером перед самым отъездом я вспомнил Пружинку, потому что большой фургон стоял на мостовой у ее ограды.
— Мама, а что с Пружинкой?
Мама брезгливо тряхнула головой.
— Они уехали.
— Кто?
— Уильямсы. Кто же еще? Папа Римский? — Мама почти шипела. — Так я и знала — уехали, как только она стала им не нужна. Сняли пока какую-то одноэтажку. Говорят, Генри Уильямс собирается строить дом. Я никогда не верила этому типу.
Я не припоминал, чтобы мама имела какие-нибудь сношения с Генри, и подивился ее категоричности. Я смотрел, как открылись двери напротив, как рабочие выносят мебель, коврики, посуду, постели. Мама стояла рядом и тоже смотрела.
— Все дешевка, подержанный хлам. Он зря не потратится.
Фургон тронулся, мама вернулась к шитью. Ученик с нотной папкой вошел в Пружинкину дверь.
— Ты бы попозже, когда она кончит уроки, пошел попрощался, — сказала мама. — Это твой долг.
— Ой нет. Ну, мама!
— Глупости, — сказала мама спокойно. — Сам знаешь, ты обожаешь ее.
Так что вечером, когда дрожь газовых фонарей вокруг Площади унялась в ядовитой яркости, я, лоснясь брильянтином и мечтая поскорей отделаться, прошел по газону к старому дому. В эркере было темно, и мне ужасно хотелось думать, что она ушла или легла, потому что приманки Оксфорда — огни, концерты, театры и люди, которые будут к моим услугам в свободное от химии время, — вытеснили все остальное. Но я оглянулся на наш флигель, увидел, как дрогнула занавеска, сдвинулась, оставила треугольничек, в котором чуялся мамин глаз. И, глубоко вздохнув, перешагнул цепи и ступил на булыжники. Открыл входную дверь. Меня уколола холодная мысль, что вот опять коридор и комнаты наверху стемнели и опустели. Даже в прихожей опять стало страшно. Несмотря на свои восемнадцать лет, я — для отступления — оставил входную дверь открытой. Газовый фонарь начертил на полу окно и вертикалью налег на дверь музыкальной комнаты. Со стесненным сердцем — и с фантомной детской скрипочкой в левой руке — я поднял правую, чтоб постучать. И опустил.
Звуки, доносившиеся из-за темной филенки, были своего рода проверкой слуха. Но что было делать грачу там, налево, на коврике перед тусклым красным глазком камина? И не мог он перемежать свое тихое граканье этой странной, задушливой нотой, как струной под неловкими пальцами. Я окаменел, с опущенной левой рукой, приподнятой правой, и слушал, как задыханья и граканья множились, длились. Проверка слуха давала картину такую отчетливую, будто нас не разделяла филенка. Она сидела в темноте, слева, скорчившись перед тусклым огнем, под хмурым бюстом. Безуспешно пытаясь без учителя научиться, как избыть сердце в слезах.
Волосы у меня, несмотря на брильянтин, встали дыбом. Я закрыл входную дверь так осторожно, будто обчистил дом. Поскорей прошел по газону и хотел прокрасться наверх, пока мама не заметила. Но хотя она еще шила, она слышала все.
Читать дальше