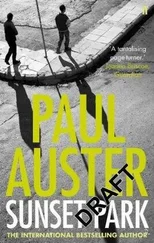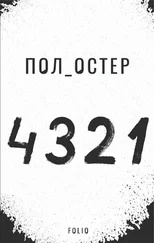Дочитав письмо, Барбер понял, что в нем нет для него ничего нового. Виктор написал лишь то, что Барбер и сам давно уже знал: что он никогда больше не увидит Эмили. А сообщение о ее смерти только подтвердило это. Просто подтвердило, что его утрата — реальность, и с ней он живет уже многие годы. Из-за этого письмо не стало менее горестным, но, оплакав еще раз свою потерю, Барбер страстно захотел знать больше. Что с ней случилось? Где она жила и чем занималась? Была ли замужем? Остались ли у нее дети? Любил ли ее кто-нибудь? Барбер жаждал знать обо всем. Ему хотелось заполнить все белые пятна и воссоздать ее биографию, получить нечто такое, что можно было бы носить с собой всю жизнь: несколько фотографий или, еще лучше, фотоальбом, который он мог бы открывать и мысленно, и в своем кабинете, всегда, когда захочет. На следующий день он снова написал Виктору. Выразив свои искренние соболезнования в первом абзаце, он далее очень деликатно намекнул, что ему было бы исключительно важно знать ответы на некоторые вопросы. Он терпеливо ждал ответа, но прошло две недели, а он не получил ни строчки. Наконец, решив, что его письмо затерялось, Барбер позвонил Виктору. После четвертого гудка он услышал в трубке голос оператора: номер отключен. Но Барбера это не остановило (в конце концов, родственник Эмили может быть беден и настолько ограничен в средствах, что не в состоянии платить за телефон), поэтому он забрался в свой «додж-51» и поехал на Линдвуд-авеню, 1025, где была квартира Виктора. Не найдя при входе среди имен жильцов фамилии Фогг, он позвонил консьержу. Через несколько секунд на звонок, шаркая, вышел низенький человек в желто-зеленом свитере и сказал, что мистер Фогг уехал. «Да он со своим… этим… мальчуганом сразу схватился и дней десять назад того… съехал». Барбер был разочарован, такого поворота событий он не ожидал. Но с тех пор ни на мгновение не переставал думать о том, кто же этот мальчуган. А даже если бы перестал, какое это имело бы значение. Может, это сын кларнетиста, и на этом можно остановиться.
Много лет спустя, когда Барбер рассказал мне о втором письме, которое он послал Виктору, я наконец-то понял, почему мы с дядей так неожиданно уехали из Сент-Пола в 1959 году. Теперь всей той спешке было прямое объяснение: и торопливым ночным сборам, и быстрому, без остановок переезду в Чикаго, и двум неделям жизни в гостинице без учебы в школе. Дядя Вик ничего не знал о Барбере, но почувствовал опасность. Где-то ведь обретается мой отец, а вдруг этот тип, так интересующийся Эмили, и есть он? Кто поручится, что папаша, чего доброго, не потребует отдать мальчика? Не упоминать обо мне в первом письме было просто, но потом пришло второе письмо с массой вопросов, и дядя подумал, что лучше скрыться. Не отвечать на письмо было бы все равно что лишь на время отодвинуть проблему: раз незнакомец так любопытен, он скоро начнет нас искать. И что тогда? Дяде ничего не оставалось, как скрыться, — схватить меня в охапку и среди ночи исчезнуть из города.
Барбер рассказал мне эту историю самой последней, и она вызвала двойственные чувства. Я понял, что я значил для дяди, понял, насколько сильна была его бесконечная любовь, и меня вновь захлестнуло горькое сожаление, что его больше нет. Но в то же время я почувствовал и горечь из-за того, что был лишен стольких лет общения с отцом. Ведь если бы дядя Вик вместо того, чтобы прятаться, ответил на второе письмо Барбера, я бы узнал, кто мой отец, еще в 1959 году. В том, что произошло, некого винить, но от этого не легче. Все случилось из-за разобщенности, прервавшейся связи, плохо рассчитанных действий, блуждания в темноте. В нужное время мы всегда оказывались не в том месте, а в нужном месте — не в то время, всегда проходили мимо друг друга, всегда находились в двух шагах от встречи. Вот к чему ведет мое повествование — череде упущенных возможностей. Поначалу все эти эпизоды были сами по себе, и никто не знал, какая общая картина сложится из них потом.
Во время той первой встречи, конечно же, о личной жизни Барбера и речи не было. Сын Эффинга решил не раскрывать своих предположений на мой счет, и потому сфера наших бесед ограничилась историей жизни его отца, и за те дни, что он был в Нью-Йорке, мы обсудили ее довольно подробно. В первый вечер он пригласил меня на обед в ресторан «У Галлахера» на Пятьдесят второй улице; на следующий день мы пошли в ресторан в Китайском квартале вместе с Китти, а на третий день, в воскресенье, перед его отлетом, я завтракал с ним в гостинице. Ум и обаяние Барбера очень быстро заставили меня забыть о его внешности, и чем больше мы с ним общались, тем приятнее мне было находиться в его компании. Почти с самого начала мы говорили легко и непринужденно, обмениваясь шутками и интересными наблюдениями, рассказывая друг другу о себе. Но в основном разговор шел об отце Барбера, и поскольку прямота его не смущала, я мог говорить об Эффинге без прикрас, и хорошее и плохое.
Читать дальше