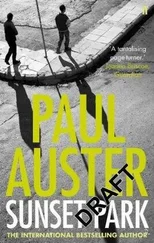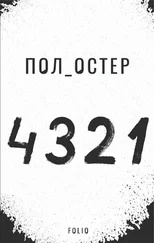Я вышел из-под козырька и взялся за ручки кресла.
— Пожалуй, вы правы, — сказал я, морщась от хлещущих в лицо дождевых струй. — Надо мной вроде бы тоже не капает.
В это время вспышка молнии пронзила небо, а затем оглушительно грянул гром. Ливень обрушился на нас со всей яростью. После очередного порыва ветра очки Эффинга слетели, но он все хохотал, упиваясь неистовством стихии.
— Замечательно, правда? — крикнул мне Эффинг сквозь шум воды. — Пахнет как дождь. Шумит как дождь. Даже на вкус как дождь. И все же мы абсолютно сухие. Это торжество духа над материей, Фогг. Мы этого добились! Мы наконец проникли в тайну Вселенной!
Было ощущение, что я перешел невидимую границу, отделявшую меня от самых сокровенных тайн личности Эффинга. Я не просто стал соучастником его безумного замысла, я как бы признал его право на свободу и в этом смысле в конце концов доказал ему свою верность. Старик скоро умрет, но пока жив, он будет меня любить.
Мы протащились еще кварталов семь-восемь к центру города, и всю дорогу Эффинг вопил в экстазе: «Чудеса! Черт побери, дьявольские чудеса! Пенсы летят с небес. Лови, пока они летят. Свободные деньги! Деньги для всех и каждого!»
Его, конечно, никто не слышал: улицы опустели. Кроме нас не нашлось дураков — все попрятались под крышу, и чтобы раздать последние купюры, мне пришлось по дороге совершить несколько блиц-набегов в бары и кофейни. Эффинга я оставлял у дверей этих заведений и все время, пока раздавал деньги, слышал его раскатистый дикий смех. Этот безумный смех так и звенел у меня в ушах, сопровождая столь же безумный финал нашего предприятия. Наши эмоции уже не повиновались нам. «Деньги! — кричал я, смеясь и плача одновременно. — Пятьдесят долларов каждому!» К тому времени я уже промок до нитки, от ботинок оставались лужи, с одежды стекала вода. Хорошо, что мы уже осуществили задуманное. Еще чуть-чуть, и нас непременно задержали бы за хулиганское поведение.
Последней нашей остановкой было детское кафе, неопрятная дыра с тяжелым воздухом, освещенная лампами дневного света. У стойки толпилось человек пятнадцать посетителей, один несчастнее и печальнее другого. Купюр у меня в кармане осталось лишь пять или шесть, и я как-то сразу растерялся и не знал, что делать. Не было больше сил думать и принимать решения. Не придумав ничего лучше, я выхватил деньги из кармана и подбросил их вверх. «Берите кто хочет!» — выкрикнул я, выбежал из кафе и вновь помчал Эффинга сквозь грозу.
После той ночи он больше ни разу не выезжал из дому. Ранним утром на следующий день у него начался кашель, а к исходу недели стал глубоким и влажным. Мы вызвали врача, и он поставил диагноз: пневмония. Доктор хотел сразу же отправить Эффинга в больницу, но старик отказался, заявив, что имеет право умереть в своей собственной постели и если кто попробует хоть дотронуться до него, чтобы забрать из дому, он наложит на себя руки. «Я перережу себе горло бритвой, — прохрипел он, — пусть это висит тогда на вашей совести». Врач хорошо знал Эффинга и сообразил прихватить с собой список частных патронажных агентств. Мы с миссис Юм договорились с одним их них, а на следующей неделе оказались и вовсе по уши в делах: встречались с юристами, проверяли банковские счета и прочее. Надо было обзвонить бесконечное число людей, подписать бесчисленные бумаги, но в это вряд ли стоит углубляться. Для меня было важно, что постепенно между мной и миссис Юм снова установился мир. Ведь после нашего возвращения с того ночного представления при грозе она ужасно рассердилась и целых два дня не разговаривала со мной. Она считала, что я в ответе за здоровье Эффинга, да я и сам был того же мнения и потому даже не пытался оправдываться. Но долго быть в ссоре с миссис Юм мне было тяжело. Я уже боялся, что это навсегда, но неожиданно лед растаял. Не знаю, как все получилось, видимо, она что-то такое обронила Эффингу о том, что считает меня виноватым в его болезни, а он в свою очередь уговорил ее не сердиться на меня. Когда мы увиделись с ней после того разговора, она обняла меня и, глотая слезы, попросила прощения.
— Его час пробил, — горестно произнесла она. — В любой момент он может умереть, и мы ему ничем не поможем.
Сиделки дежурили по восемь часов, они выполняли медицинские предписания, подносили судно и следили за показаниями тонометра, прикрепленного к руке больного. В большинстве своем это были черствые, вполне равнодушные люди, не стоит и говорить, как неприятно было Эффингу их присутствие. До последних дней он плохо на них реагировал, и только когда совсем ослабел, перестал их замечать. Если не нужно было проделывать какую-либо процедуру, он требовал, чтобы сиделка вышла из комнаты, поэтому чаще всего все они проводили свое дежурство на диване в гостиной; с неизменно брезгливой миной они листали журналы и курили. Некоторые из них увольнялись, а некоторых пришлось увольнять нам самим. Если не считать недовольства сестрами, Эффинг с той поры, как слег в постель, удивительно изменился — он стал доброжелательным, и куда подевалась его зловредность перед лицом приближавшейся смерти. Хотя его и не мучили сильные боли, болезнь протекала с неуклонным ухудшением, Эффинг медленно и необратимо терял силы — и так до самого конца (впрочем, однажды нам показалось, что он совсем пошел на поправку, но через три дня последовал рецидив).
Читать дальше