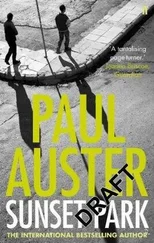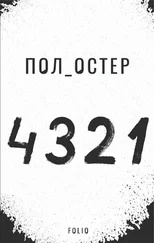— Ну, по-моему, мы теперь знаем, как они составляются, а, молодой человек? — спросил он.
— Кажется, да, — ответил я. — Мы проштудировали их явно достаточно, чтобы уловить основной принцип.
— Гнетущая информация, ничего не скажешь. Но я решил, что небольшая разведка не помешает перед тем, как мы приступим к нашему делу.
— Какому делу?
— Мое время приближается. Любому идиоту ясно.
— Я, конечно, не думаю, сэр, что вы будете жить вечно. Но вы уже пережили тот возраст, в котором люди чаще всего покидают этот мир, и вряд ли стоит полагать, что вы не проживете еще долгие годы.
— Возможно. Но если я ошибаюсь, то впервые за всю свою жизнь.
— Вы хотите сказать, что предчувствуете скорую смерть?
— Верно, предчувствую. Сотни маленьких примет подсказывают мне это. Истекает отпущенный мне срок, и нам пора приступать к делу, пока еще не поздно.
— Я так и не понял, к какому.
— К моему некрологу! Пора начать его составлять.
— Никогда не слышал, чтобы кто-нибудь сам писал свой некролог. Это должны сделать за вас другие, уже тогда, когда вы умрете.
— Это тогда, когда другие знают о фактах чьей-то жизни. А если никто ничего не знает?
— Я понял. Вы хотите обозначить некоторые основные вехи.
— Именно.
— А почему вы считаете, что ваш некролог захотят опубликовать?
— Его опубликовали пятьдесят два года назад. Не вижу причины, почему бы им не сделать это еще раз.
— Не понимаю.
— Я был мертв. О живых некрологов не публикуют, ведь так? Я был мертв, или, по крайней мере, так думали.
— И вы ничего не возразили?
— Не хотел. Мне нравилось, что меня считали мертвым, а когда об этом написали в газетах, мне посчастливилось так и остаться среди мертвых.
— Вы, наверное, были знамениты.
— Я был очень знаменит.
— Тогда почему я ни разу не слышал о вас?
— Я носил другое имя. А когда умер, избавился от него.
— И какое это было имя?
— Да какое-то девчоночье. Джулиан Барбер. Оно мне всегда было противно.
— Но я и о Джулиане Барбере никогда не слышал.
— Теперь о нем уже никто не помнит. Это ведь было пятьдесят лет назад, Фогг. Шестнадцатый-семнадцатый год. Я канул в Лету, как говорится, и больше никогда не появлялся.
— А кем вы были, когда носили это имя?
— Живописцем. Великим американским живописцем. Если бы я продолжал это дело, меня бы наверняка считали самым знаменитым художником своего времени.
— Очень скромно с вашей стороны.
— Я просто говорю как есть. Моя карьера была совсем недолгой, и я не все успел.
— А где теперь ваши картины?
— Не имею ни малейшего понятия. Наверное, все исчезли, испарились. Меня это сейчас уже не волнует.
— Тогда почему вы хотите написать некролог?
— Потому что я скоро умру, и тогда уже будет неважно, скрывал ли я что-либо. В первый раз его сляпали кое-как. Может, теперь сделают поприличнее, когда все узнают.
— Понятно, — сказал я, не понимая ничего.
— Конечно, во всем сильно задействованы мои ноги, — продолжил он, — ты наверняка удивлялся, глядя на них. Все удивлялись, это вполне естественно. Мои ноги… Мои высохшие неходячие ноги. Я ведь не был калекой от рождения, понимаешь? Об этом можно было бы и сразу тебе сказать. В юности я был очень бодрым парнем, кутилой и хулиганом, и не прочь был со всеми повеселиться. Это было на Лонг-Айленде, в огромном доме, где мы проводили лето. Сейчас там кругом одни здания и автостоянки, а тогда это был просто рай, только луга и морской берег, маленькая Земля обетованная. Тогда я перебрался в Париж в 1920 году, не было смысла никому ни о чем рассказывать. Было уже неважно, кто что подумает. Если я не вызывал подозрений, кому какое дело было до того, что со мной произошло в действительности? Я придумал несколько легенд, одна лучше другой. Я сочинял их под обстоятельства и под настроение, всегда чуть-чуть изменяя: то приукрашу какой-нибудь случай, то отшлифую какую-нибудь деталь, — и так забавлялся своими легендами годы и годы, пока не сотворил лучшие. Особенно удачными получились легенды о войне, тут я здорово навострился. Я имею в виду первую мировую, которая потрясла мир и показала, кто есть кто, войну за прекращение всех войн. Слышал бы ты как красноречиво и с пафосом я расписывал грязь по колено в траншеях. Как никто, повествовал я о страхе, орудиях, грохочущих в ночи, онемевших от ужаса пехотинцах, готовых в штаны наложить. Шрапнели, рассказывал я, в моих ногах более шестисот осколков — вот как все случилось. Французы слушали развесив уши и не могли наслушаться. Еще у меня была легенда об эскадрилье Лафайета. Этакий захватывающий, задевающий за живое рассказ о том, как меня ранили боши. Удачный был рассказ, ей-богу, а они все просили еще да еще. Важно было держать в голове, что, кому и когда я напридумывал. Я все хранил в памяти долгие годы, чтобы не предъявлять разные легенды одним и тем же людям. Это придавало моей затее определенный риск: понимаешь, что в любой момент тебя могут заподозрить, что кто-нибудь вдруг встанет и заявит, что ты врун. Если хочешь хорошо врать, предусмотри всякие опасные неожиданности.
Читать дальше