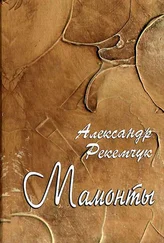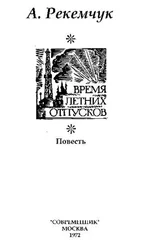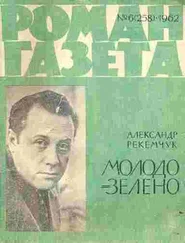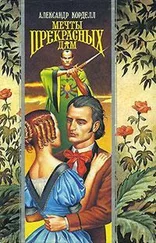Или же просто хотели заручиться поддержкой главной редакции студии еще на самом старте.
Обсуждалась заявка Юрия Нагибина на литературный сценарий «Директор».
К сожалению, у меня нет под рукою текста этой заявки — теперь, спустя многие годы, было бы любопытно перечитать ее. Но помню, что она отличалась завидным лаконизмом. Автор (самого Нагибина на заседании не было, был только отбитый на машинке текст в полстраницы) без обиняков сообщал малоизвестную подробность своей биографии: в молодые годы он был женат на дочери Ивана Алексеевича Лихачева, директора Московского автомобильного завода, позже министра, и несколько лет жил в его семье.
Вот как высоко он побывал.
Ведь Лихачев был не просто директором и министром, но был легендарной личностью, культовой фигурой в иерархии советских идолов — чуть меньше Чапаева, но крупнее Стаханова.
Достаточно сказать, что завод, который он возглавлял в течение десятилетий, носил имя Сталина — знаменитый ЗИС, — а после смерти директора вместо имени Сталина ему было присвоено имя Лихачева — не менее знаменитый ЗИЛ.
Большая Советская энциклопедия добавит к этому, что Иван Лихачев родился в 1896 году в семье крестьянина, что работал на Путиловском заводе в Петербурге, был матросом Балтийского флота, красногвардейцем, сотрудником ВЧК. Учился в Горной академии и Электромеханическом институте. Был директором автомобильного завода, наркомом машиностроения, министром автомобильного транспорта и шоссейных дорог. Избирался членом ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета, награжден пятью орденами Ленина, похоронен на Красной площади у Кремлевской стены...
Вот эту славную биографию и решил положить в основу своего сценария Юрий Нагибин.
Примем во внимание, что к этой поре Лихачева уже не было в живых. Учтем также, что к этому времени писатель Нагибин уже не был зятем Лихачева, поскольку успел после брака с его дочерью жениться еще трижды. То есть, творческий замысел был теперь совершенно свободен от личных обязательств — пиши, что хочешь.
Ну и, конечно, нужно принять во внимание тот общественный климат, который проявится после отставки Хрущева: жесткая критика культа личности Сталина, уже забуксовавшая на виду у всех в расхлябанной колее хрущевского волюнтаризма, вполне понятно, должна была смениться более взвешенным подходом к самой фигуре Сталина и, уж вовсе непременно, к эпохе революции, гражданской войны, индустриализации — так оно и пойдет, покуда опять не забуксует в трясине брежневского застоя...
(Эти термины позднее войдут в громоздкое название единственного нагибинского романа — «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя»).
Стоит ли удивляться тому, что заявка на литературный сценарий «Директор» была поддержана не только единодушно, но с ликованием.
Режиссером фильма предполагался Алексей Салтыков — таким образом, всё было нацелено на повторение успеха «Председателя».
Примерно тогда же в Москву приехала Марта Лесна, переводчица из Братиславы. В ее переводе на словацкий язык вышли мои повести «Время летних отпусков», «Молодо-зелено», книга рассказов «Дочкина свадьба». Двумя годами ранее мы с Чингизом Айтматовым были гостями в ее доме, познакомились с мужем, журналистом Эрвином Лесны, который позднее, после событий шестьдесят восьмого, эмигрировал в Германию, а дальше не знаю, вернулся ли.
Бывая в Москве, Марта не забывала посетить и нас, подружилась с Луизой.
На сей раз, помимо разговоров о творческих планах и выяснения, что почем в жалких московских магазинах, Марта объявила, что редакция словацкого женского журнала поручила ей взять интервью у Беллы Ахмадулиной, — так не могу ли я помочь ей встретиться с поэтессой, которой заинтересовались даже в Чехословакии?
Я сказал, что попробую.
Позвонил Нагибиным домой, там ответили, что на даче, позвонил на дачу, подошел сам Нагибин, я ему объяснил, что и как, он, в свою очередь, перемолвился с Беллой, и всё решилось: нас ждут.
Я бы погрешил против жизненной правды и правды характеров, если б попытался уверить, что там на столе не было бутылки водки и блюда с очень вкусными бутербродами собственноручного приготовления хозяйки.
Но прежде нам показали дачу, обставленную антикварной мебелью: как раз тогда народ переезжал из коммуналок во всякие новые Черемушки и Кузьминки, без сожаления отрекаясь от обветшалого наследия предков, и это наследие — белоснежное рококо, строгая классика, томный модерн — ненадолго задержавшись в комиссионных магазинах, перемещалось в квартиры и на дачи московской интеллигенции.
Читать дальше