А Фостирий словно вспомнил несколько слов, но тут же и забыл их напрочь. И моргать Фостирий забыл, смотрит Фостирий, как поднимается медленно Митька со своего кресла, обходит — руки за спину — стол и останавливается возле него. И в лицо Митьке смотреть для Фостирия неудобно — шею ломит, а на сапоги его взгляд перевести — сил нет, так вот и замер и сосредоточился на дырочке в портупее.
— А? Фося, — произносит Митрий Анкудинович тихо, едва ль не шёпотом, и глаза при этом закрывает.
А у Фостирия тот человек, что внутри сидит и говорит теперь за него, будто перепугался насмерть и улизнул вниз, в пятки будто, а в горле от него будто кепка или другая какая вещица осталась, и хочет Фостирий сглотнуть которую, но не может. И к кадыку рукой Фостирий уже было, но тут скрипнули сапоги Митькины. Коротко так скрипнули, будто высокому начальству — не районному, конечно, выше — честь отдавая, вытянулся Митька. А потом Фостирий — мельком вороша в мыслях то, что Фиста себе за эти дни лоб, наверное, об пол расшибла, о судьбе его гадая перед образами, — отшелушивает с лица запёкшуюся кровь и силится вспомнить, будто важно это очень, кто его — Митька или тот, другой, Коля — в подвал доставил? И до сих пор вспомнить не может. Иногда будто вот-вот и проступят в памяти чьи-то ноги, но тут же, как рисунок с песка набежавшие волны, смоют всё бесчисленные ступеньки, отметившиеся в затылке. Митька? Да нет, вроде не по рангу, нет, отец ты мой, да и яловые сапоги скрипели, а не хромовые. Да и опять тебе нет, яловые, правда, были, были в ту же ночь, но на обратном пути, когда волокли его снова наверх, на третий этаж. С толку сбил этот скрип. Как уж тут и не запутаться. Это то, что потом, всё ясно, отчётливо въелось — до смерти из памяти не выскочит, за смерть зайдёт, наверное:
— Коней отравлять уговаривал?
— Уговаривал.
— Конюшню спалить собирались?
— Собирались.
— Бога разрешить сулил?
— Сулил.
— Деньги обещал?
— Обещал.
— О Советской власти худое говорил?
— Говорил…
— Ладно, ладно, зенки-то не пяль так, а то выпадут… Сын твой в Ялани, обманул тебя я, не хрен было упираться, Скобелев же тут, давно всё уже выложил… Ну вот, вишь, Фося…
— Вижу, всё вижу, падла! И Бог видит…
И фитиль чадит — убавить некому, и со стены два портрета — один вроде как экзаменатор, другой вроде как из заезжей комиссии, но оба доброжелательные — посматривают, и за окном на фоне восхода скелетики берёзовых ветвей обозначились, зябкие, ветру подвластные, а босой, с растрёпанной бородой, Фостирий в располосованной, как на драньё, рубахе будто танец шаманский на углях выделывает, а Митька, Митька — дух вызванный, подчинивший себе волю самого шамана, в руке у духа плеть со свинцушкой на конце: ошибся шаман — отдай на ноге палец — оторвёт его свинцушкой, сфальшивил в танце — кожей на спине пожертвуй — плеть её в кровавый свиток скрутит. Такое странное камланье…
— А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-у-у-у-у-ум-м, — но это не тогда Фостирий, а сейчас, дёсны уминая, стискивая в висках память, захлёбываясь в бессилии вырваться из потока, к берегу пристать, почву под собой почувствовать и ползти, ползти прочь. Завозил головой по подушке Фостирий — заметалась в глазах изба, до головокружения, до белых светлячков, до тошноты — как тогда, весной сорок девятого. К Пасхе домой вернулся Фостирий. От весны, от леса, от воздуха, от узнавания места и запахов, от свободы опьяневший, в Ворожейку вошёл. В Ворожейке, как и во всём православном мире, пост к концу — народу в деревне ещё густо было, — праздник на подступах Божий. И Фостирий с Сулианом, втае сначала, у Сулиана в бане закрывшись, пить начали ещё в Четверг Великий, а уж утром-то, в Христово Воскресение, в открытую пошли к Василисе христосоваться, а у Василисы во дворе качеля, и нет чтобы сразу в дом войти, с хозяйкой по-людски расцеловаться, на качелю забрались, как дети малые, качаться надумали. Оп-п, оп-п, эть-эть: и земля под ногами, как в жизни прямо, — думает Фостирий.
— Земля-то, отец ты мой, под ногами — ну точно — как в жизни! — кричит он Сулиану, оттого кричит, что ветер в ушах играет, свистулькой поливной заходится, все слова глушит. А Сулиану не понять — Сулиан на небо смотрит, там его интерес. И Фостирий мельком взглянул на небо. А на небе хоть бы белого где клочок — тщательно так по случаю Воскресения будто выметено, глазу не за что зацепиться: «Постарались, шныри, попотели», — спьяну так про ангелов думает Фостирий, а сам, себя вроде как прерывая, поддал — земля под ним за спину метнулась, сопку Медвежью опрокинула, — поддал Фостирий и кричит:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
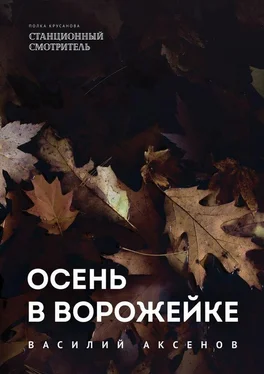


![Василий Аксёнов - Время ноль [сборник]](/books/29609/vasilij-aksenov-vremya-nol-sbornik-thumb.webp)



![Василий Аксёнов - Малая Пречистая [litres]](/books/392707/vasilij-aksenov-malaya-prechistaya-litres-thumb.webp)
![Василий Аксёнов - Золотой век [сборник]](/books/426534/vasilij-aksenov-zolotoj-vek-sbornik-thumb.webp)



