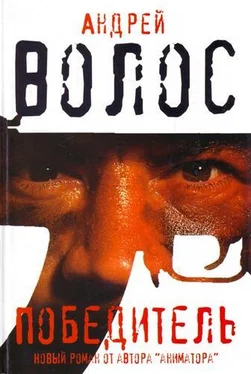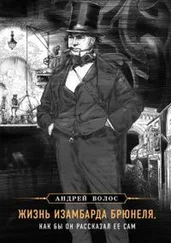Ольга давно уже не чувствовала ни страха, ни голода, ни жажды, но почему-то именно сейчас ей подумалось, что нужно, наверное, выйти вон из строя и побежать… все лучше ничего не чувствовать мертвой, чем ничего не чувствовать живой. Она совсем уже было собралась, сделала короткий шаг… однако офицер что-то скомандовал, солдаты, замыкавшие колонну, принялись каркать, размахивать автоматами. Оказалось, отделяют женщин. Медсестер загнали в жилую каморку с нарами и парашей.
Уже утром вывели на работу в бараки лазарета, где лежали больные и раненые. Бронников еще той ночью, когда она все это рассказывала (рассказывала так безучастно, с таким отстраненным интересом, как будто сама не верила, что с ней это происходило), все переспрашивал, пытаясь понять назначение лазарета. Объяснить она не умела, пожимала плечами, было видно, что и сама ни тогда не понимала, ни теперь в толк взять не могла. И впрямь, все говорило, что людей привозят на уничтожение. Возникал резонный вопрос: почему всех сразу не перебить? Для чего сначала делать из человека доходягу, а уж потом умертвлять? Зачем лечить или хотя бы даже создавать видимость лечения? Зачем вообще строить все это, потом охранять? Привычный вывих бюрократической мысли? А иначе в чем смысл?.. Заключенные ползли к лазаретам из последних сил, но места в них все равно не хватало. Поэтому охранники поворачивали умиравших назад, а тех, кто не хотел или не мог ползти обратно, расстреливали. Одежду с мертвых снимали и, собрав в кучи, куда-то отправляли. Подводы днем и ночью неспешно возили горы желтых трупов. Экскаватор копал невдалеке очередную яму. Писарь из числа военнопленных писал на дощечке:
MASSENGRAB № … — 1000 MANNER . [15]
На такой же дощечке, кстати, писали лагерный номер: вешали дощечку на шею, фотографировали, делали отпечатки пальцев, заводили карту военнопленного, после чего ждали, когда он умрет. Зачем фотографировали? Кому нужна фотография мертвого? Нет, не укладывалось в голове… У Ольги тоже был номер — 18336, она несколько раз повторяла, и Бронников запомнил. Значит, перед ней туда привезли восемнадцать тысяч триста тридцать пять человек. А была только середина декабря сорок первого года. Нет, не укладывалось… По ее словам, дорыв яму, экскаватор, не теряя времени, принимался за следующую. Когда яма наполнялась телами, он закидывал ее землей. Кое-где оставались торчать ступни и кисти… но на это мало обращали внимания.
Он и той ночью пытался рассуждать — отчасти вместе с Ольгой. Мол, как же так — если всех не убивали, опасаясь столкнуться с проблемой утилизации такого количества трупов, то зачем вообще везли? Чтобы использовать на тяжелой и бессмысленной работе в глиняных карьерах по берегам Эльбы? Но, по ее словам, в карьерах человек кончался через неделю — буханка хлеба на десятерых не может поддержать сил… Проще было бы всех положить там, под Вязьмой, и не заваривать эту кашу… нет, не укладывалось это в голове, не укладывалось!..
Между тем из тихого, с краснокирпичными кирхами городка Фаллингбостель приходили и приезжали на велосипедах сотни зевак. Некоторые приводили детей. Говорили, будто коменданту лагеря это не нравится, и он просил закрыть подъездные дороги. Однако бургомистр ответил, что подобное зрелище не повредит горожанам — если население воочию увидит этих зверей в человеческом облике, оно само придет к выводу, к каким последствиям могло бы привести их нападение на Германию… Глядя на маячившие за дальним ограждением фигуры, Ольга вспоминала, что, когда их с мамой угоняли из деревни, соседские Юрка с Пашкой улюлюкали и кидали в повозку камнями… да и другое вспоминала, многое здесь было похоже на уральскую ссылку. Правда, по их просеке, пока они с Дарьей были еще там, на Урале, пригнали только два состава ссыльных, вновь наполнивших неудержимо пустеющие бараки, а сюда этапы шли и шли, чтобы очень быстро лечь в вырытые экскаватором ямы, освобождая места новым насельцам, столь же временным… Но могла ли она знать, сколько всего по стране пролегло тех просек?..
Немцы в лазареты не совались — там кишмя кишели вши, крупные, как тараканы. Ну а им деваться некуда. Даже оперировали в бараке («Оперировали?! — поражался той ночью Бронников. — Да как же?!»); да так же: больше от отчаяния, чем из расчета на успех; но от непроходимости кишечника человек погибает наверняка, а если его разрезать ножом, заточенным об обломок кирпича, и устранить главную угрозу, то, быть может, он пересилит гнойное воспаление. Непроходимость кишечника была рядовым диагнозом, поскольку повара закладывали в котлы немытую брюкву, свеклу. Кто-то, даже умирая от голода, способен потратить пять минут, чтобы процедить баланду или хотя бы дать отстояться, а кто-то — нет. Голод утратил свойства абстрактного существительного и превратился в нечто осязаемое, плотное, имеющее консистенцию, цвет, запах, вкус. Все вместе напоминало карболку, походило на тягучий глоток, всегда стоящий в горле. Голод покрывал окружающее серо-коричневой пленкой, сквозь которую не могли пробиться истинные цвета сущего. Солнце тоже было серо-коричневым и тусклым.
Читать дальше