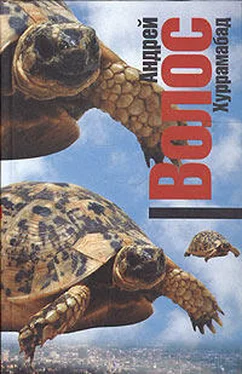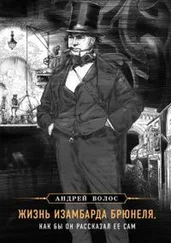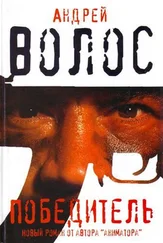И уже казалось, что большего несчастья быть не может, но тут накатилась осень девяносто второго… в Хуррамабад хлынули беженцы из Курган-Тюбе, где на костях жителей шли веселые пьяные бои между вовчиками и юрчиками… из Кабодиёна, где людей расстреливали на хлопковых полях… из сотен кишлаков, по которым катилась безумная война… Бездомные спали в скверах вповалку… фантастически красивые дочери хатлонских дехкан слонялись по пыльным, голодным улицам Хуррамабада, клянча кусок лепешки или сахара и, должно быть, испытывая такое же тупое отчаяние, какое испытала она несколькими месяцами позже, когда они нашли свой контейнер на станции Генералово: не было денег, чтобы перевезти его в Завражье, где уже стоял их вагончик — в длинном, во все поле, ряду других…
Она думала иногда — вот же глупая выдумка с этим ящиком Пандоры! Открыли — бац, и несчастья разлетелись по белу свету!.. Все наоборот — должно быть где-то вместилище человеческих бедствий, куда они, отработав свое, досыта напившись крови и жизни, утомленно валятся, чтобы лежать там все более и более ужасающей грудой до конца времен… до того момента, когда тот, кто имеет на это право, заглянет в него… — и отшатнется! и побледнеет! и покачает потом головой, и протянет сочувственно что-нибудь вроде: «Да уж… ничего не скажешь… досталось ребятам!..»
Вот тогда-то, за два дня до отъезда, Сергей притащил откуда-то щенка, опустил перед ней на пол и сказал детям:
— Звать его будем Банзай. Нравится?..
…Маша отперла дверь, вошла в крошечную прихожую и поставила бидон на табуретку.
Здесь, где потолок и стены были обиты листами картона от кондитерских коробок, было тепло даже в лютые морозы.
Настраиваясь на новый ритм, она расстегнула воротник телогрейки и помедлила несколько секунд, озирая тот мир, в котором по преимуществу проходила теперь ее жизнь, — это прихожая, она же и кухня; за дверью комната двенадцати метров, сплошь заставленная — три кровати, два шкафа, небольшой стол и комод, да теперь еще пришлось дощатый манеж поставить, в котором нетерпеливо мекают два курчавых пятидневных козленка, названных было Лобачевым громко — Салтык и Ятаган, но к исходу первого же дня превратившихся в Сашку и Яшку. За этой стеной — дощатая и тоже утепленная разобранными коробками пристройка, в которой мирно обитают тридцать гусей и коза, хранится сено и зерно. А к той стене примыкает стена соседнего вагончика…
— Ну сейчас, сейчас, — сказала она. — Размекались!
Она принялась за дело, и руки будто сами — сначала как бы нехотя, а потом все больше и больше разохочиваясь, — замелькали, захлопотали, касаясь всего, чего им нужно было коснуться, бережно, но твердо.
Для начала она сходила с двумя ведрами к колонке, потом принесла дров и разожгла печь.
Глядя на ее загрубевшие руки — смуглые, с коротко постриженными ногтями, — трудно было представить, что еще несколько лет назад она работала технологом на кондитерской фабрике, красила ногти розовым лаком и любила, чтобы белый халат похрустывал и коробился от свежести, как простыня на морозе.
Она взяла козленка Сашку и пустила его к матери. Присев на корточки, Маша смотрела, как он быстро нашел сосок и стал жадно глотать. Через несколько минут отняла и, прижимаясь лицом к удушливо-душистой шерсти и ласково приговаривая, отнесла назад к братцу. Сашка, цинично использованный в качестве катализатора млекоотделения, возмущенно и жалобно мекал.
— Ну что, Белка, — уже говорила она, выдаивая остатки в пластмассовый тазик. — Смотри-ка, Белка… Ну нет, это не молоко, сестричка ты моя… никуда не годится… Шестой день пошел, Белочка… Пора уже тебе молоко давать… А? Как думаешь? Давай, давай, раздаивайся… Хватит уже… Нам тоже молока хочется… что ж все молозиво да молозиво… Да, Белка?.. Сейчас напоим твоих козлятушек… напоим ребятушек… а завтра уже прикармливать начнем… да, Белка?
Тазик она отнесла в дом и наполнила молозивом две большие бутылки.
Напоив козлят и поменяв подстилку в манеже, она намяла ведро сварившейся к тому времени картошки, намешала с пареным зерном и отрубями. Покормив гусей, выгнала на волю — радостно гогоча и вытягивая шеи, они поплелись было в сторону леса, но далеко не отошли, сели наземь, на мерзлые комья. Банзаю тоже кое-что перепало.
Когда она, напевая, домывала оставшуюся с утра посуду (а и сквозь песню постукивали косточки счетов в голове: двести отложить Катюшке на пальто, триста пятьдесят как минимум придется отдать за комбикорм, да еще привезти его сколько-то стоит… хорошо бы свою машину… хоть бы не машину, а мотороллер с фургончиком, как у Аристова, — пусть только по сухому времени на нем можно ездить, а все-таки подспорье… если б был мотороллер, она бы все-таки завела корову… правда, Сергей ее отговаривает… да сейчас и денег на корову нет… но дело все-таки не в деньгах, а в том, что корове корм на своих плечах не натаскаешь — это хоть на каких, но все же только на колесах и можно сделать… а пока нет коровы, приходится каждое утро в Сашкино за молоком… без молока-то, как без рук… правда, будет козье — оно полезней… но Сергей не любит… можно его частью продавать, как в прошлом году… в деревне своих коз нет — не держат почему-то… так значит, это уже пятьсот пятьдесят… еще Паше нужно послать хотя бы немного денег… он все топырится — не надо мне, у меня есть!.. откуда у него, господи!.. хоть бы сто… или сто пятьдесят, если выкрутиться… и так без конца, без конца — точь-в-точь как на счетах: щелк-щелк… стоп, лишнее, перебор… тогда эту вот косточку обратно, а взамен другую сюда…), Банзай залаял, загремел цепью, она выглянула в окно и увидела почтальоншу Валентину.
Читать дальше