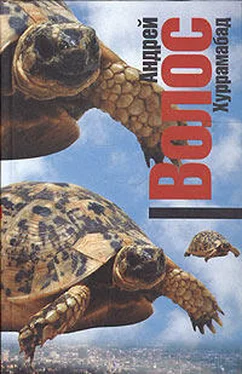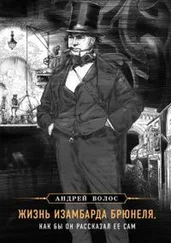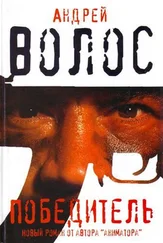— Сколько уже загораешь? — спросил он, отсмеявшись.
Дубровин пожал плечами.
— Двадцать девять дней, что ли…
— Понятно, — удовлетворенно кивнул Кулмурод. — Двадцать девять… Завтра — тридцать?
— Завтра — тридцать, — согласился Дубровин.
— Три раза по тридцать — квартал, — заметил Кулмурод.
— Четыре квартала — год, — сказал Дубровин. — Дай лучше чаю, а?
— Пул надори? — озабоченно нахмурившись, спросил повар.
— Надорам, — ответил Дубровин, неловко усмехаясь. — Ты же знаешь…
— Откуда я знаю! — сказал Кулмурод, простодушно разводя руками. — Может, появились?
— Мне тут не платят, — буркнул Дубровин, — за отсидку-то… Если только ограбить кого…
— Зачем грабить? — оживился Кулмурод. — Ты можешь продавать собак! Ты ведь любишь собак? Нет, правда! Смотри: ловишь сто собак, эге? — Он рассмеялся, но тут же посерьезнел и сказал, хитро помаргивая узкими своими глазами: — Говорю я тебе: иди к моему брату работать! Ему нужен грамотный русский мужик. Не пожалеешь! Если дело пойдет — через полгода большими делами ворочать будешь! В Москву будешь ездить! За границу будешь ездить! Что уперся? Сам готов за кусок хлеба помои таскать, а упираешься!
— Да уезжаю же я! Уезжаю!..
— А, куда ты уедешь! — отмахнулся Кулмурод. — Ну, как хочешь…
— Ладно, пойду я… — скучно сказал Дубровин.
— Иди, — неожиданно легко согласился Кулмурод, кривя щербатый рот усмешкой. — Вдруг уже тепловоз подцепили?
Независимо вскинув голову, Дубровин закрыл за собой дверь и побрел назад к составу. Ссутулившись, он шагал по гравию, всякий раз наступая на свою короткую тень, жмущуюся к ногам, словно испуганная собака. Солнце слепило глаза, разнеженные полумраком помещения, выжимая из них мгновенно высыхающие слезы. Серо-желтое марево, сгущаясь к горизонту, на юге приобретало очертания дымных выжженных холмов, на севере — синеватых отрогов гор, вершины которых, плавясь, сливались с небом.
Тень контейнера успела отползти. Он перебросил пыльный ватник к другому колесу, сел и закрыл глаза.
Должно быть, это называлось изгнанием.
Где он прежде встречал это слово? Только в романах, читанных по молодости лет. Там оно имело красивый, благородный оттенок стойкости и мужества. А вот теперь понятно, что в нем нет ни мужества, ни стойкости — только страх. Однажды под грузом страха что-то сломалось в душе, и все, что было родным и знакомым, стало чужим и таящим опасность. И вот он, еще оставаясь на месте, уже оказался в изгнании, потому что изгнание — это когда все кругом чужое и опасное. Чужой, чужой. Он чувствовал себя безвозвратно чужим, и поэтому бояться чего-либо было совершенно не стыдно.
Должно быть, это случилось после той истории в больнице… это был самый пик страха, самый перевал, на котором и сломалась душа. Через два дня он уже отправил Веру с Сашкой, — они уезжали с двумя чемоданами, словно не навсегда, а только в отпуск, — а сам остался сворачивать жизнь… продавать за бесценок квартиру… грузить контейнер… Как они там? Он увидел смеющееся лицо сына. Ах, Сашка!.. Уже не пойдем с тобой в горы!.. А помнишь, как забрались к самому леднику? Снизу он казался жалкой горстью недотаявшего снега, а потом простер над головами всю полукилометровую махину!.. Воздух лежал слоями — после вдоха привычно горячего следовал вдох ледяного… Помнишь, как оказались под сводом и увидели изумрудное солнце, просвечивающее сквозь голубую толщу льда!..
Улыбка еще блуждала на губах, когда кто-то легонько потряс его за плечо.
— М-м-м… — сказал он, вздрогнув, и раскрыл глаза: к нему склонился Сафар, подручный повара Кулмурода.
— Сансаныч! Мархамат!.. — сказал он, прижимая правую руку к груди и извинительно улыбаясь. — Кулмурод-ака присылал, кушать просил…
— Чего? — настороженно спросил Дубровин, садясь прямо.
— Я вас будил, извините, — сказал Сафар. — Кулмурод-ака просил… пожалуйста…
И он показал на поднос, где стоял чайник, пиала и тарелка плова, прикрытая лепешкой.
3
Когда вернулся Муслим, Дубровин, подложив ватник под голову, валялся в тенечке на гравии, ковыряя в зубах сухой травинкой.
Муслим подошел и молча сел рядом, держа в левой руке тюбетейку, а правой вытирая потную плешь какой-то нечистой тряпицей.
— К начальнику заходил? — лениво спросил Дубровин, хотя и знал: конечно, заходил и, если бы узнал что-нибудь утешительное, уже бы восторженно рассказывал.
— А ну его, — сказал Муслим и вслед за тем длинно и не вполне по-русски выругался.
Читать дальше