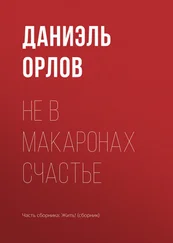— Всё как ты скажешь. Как скажешь, так и будет. Я же не знаю ничего. Я вообще в Москве второй раз в жизни.
— Ну и славно. Доверяй своему мужчине.
— Своему?
— А ты сомневаешься, девочка?
Татьяна не сомневалась. Если всё, что происходило между ними, — всего лишь сказка, то этой сказке хотелось верить. Уютно и некорыстно. Разве что детская корысть: чтобы свет не выключали, а сказку продолжали рассказывать. Как в приюте, когда лежишь под одеялом и боишься пошевелиться. Не дай бог скрипнут пружины. И все лежат и не шевелятся. А нянечка читает книжку. Долго читает. Дольше чем обычно, потому что самой стало интересно, что же там дальше произойдёт с этим Джельсомино.
Одноместный номер с телефоном и окнами на улицу Горького. Тяжёлые коричневые шторы и плотная тюль цвета беж. Подушка на кровати аккуратной пирамидкой. Репродукция Левитана на стене. Бра с причудливым абажуром над кроватью. Торшер в углу рядом со столом.
Борис поставил сумку в шкаф, помог Татьяне снять пальто.
— Никто не войдёт?
— Не бойся. Днём не войдут. Это вечером следят, чтобы посторонних в номерах не оставалось.
— Ты не посторонний.
— Это для тебя.
— Здесь и душ! — Татьяна замерла в дверях перед кафельным чудом.
— Танюша, это центр Москвы. Не «Метрополь», конечно, но хорошая, новая гостиница. Всё современное. Даже без тараканов пока, — Борис кинул куртку на стул, а сам разметал шторы по сторонам и раскрыл окно.
— Подождёшь меня? Не уйдёшь?
— Дурочка, — Борис включил радио, уселся в кресло и раскрыл газету, — куда я от тебя денусь? Теперь уже никуда.
Раскрутила краны, дивясь напору. Спешно разделась, задёрнула занавеску. Встала под горячую острую воду смывать с себя липкий пот прерывистого железнодорожного сна, тревогу пробуждений на безымянных станциях, нервный тик вагонных скрипов, собственные недостойные страхи и опасения. Вот же он, милый её Борис. Сидит в нескольких метрах от неё, в кресле с газетой в руках. Радио. Газета. Кресло. В радио что-то неторопливое и домашнее: радиоспектакль с Велиховым и Пляттом. А за окнами — опитая весной улица Горького. За окнами город, сосредоточенный будним днём, но от того не менее расточительный на звуки, запахи и надежды. Огромное бурлящее сегодня. Огромное счастье миллионов людей, в котором есть и её счастье. Пусть она украла это счастье. Счастье — единственное, что позволено красть, не раскаиваясь. Красть, не думая о расплате и наказании. Не бывает наказания за счастье, как не бывает наказания за любовь. И удивившись, обрадовавшись этой мысли, Татьяна засмеялась. Стояла под горячими струями и смеялась. Беззвучно. Глазами, которые щипало мыло, плечами, руками, поднятыми вверх. Смеялась и оживала. Оживала, как рождалась заново: не помнящей беды, оглашённой жизнью. Лучшей. Другой.
Вытерлась жёстким махровым полотенцем, промокнула волосы, посмотрела в овальное зеркало над раковиной. Увидела себя в этом зеркале, лицо своё, грудь, живот, и вдруг, словно решившись, повернулась к двери, закрыла глаза и нажала на ручку. Плотно задёрнутые шторы. Полумрак. Радио выключено. Тишина. Ушёл?! Бросилась в комнату. Нет! Здесь! Ринулась к нему, лежащему в постели, скинула одеяло и обхватила, укутала собой, целуя и смеясь. Смеялась, капая слезинками, щекотя влажными кончиками своих светлых волос, торопясь вослед своему не то крику, не стону. И, успев, уронила тело своё в темень постели, вплетя единожды эту сладкую бестелесную агонию в тугую косу своей и его памяти.
Когда через час они выходили из номера, им встретилась коридорная.
— После двадцати трёх в номерах посторонних быть не должно. Это я к вам, молодые люди, обращаюсь — правила для всех общие.
— Она знает, — зашептала Татьяна в ухо Борису.
— Ну и что? Это она для порядка. Демонстрирует, что всегда на посту. Не волнуйся, решим эту проблему.
— Как?
— Увидишь. Всё будет хорошо. Всё уже хорошо, а будет только лучше.
В лифте Татьяна посмотрела в зеркало и смутилась своей счастливой улыбки. Смутилась, попыталась придать лицу деловое выражение, но, заметив, что Борис удерживается, чтобы не рассмеяться, расхохоталась сама.
Дождь закончился. Утреннюю хмарь раскидало солнечными лучами. В ветвях деревьев вдоль улицы Горького шкодливо путались солнечные зайчики. Борис не стал спрашивать, куда бы Татьяна хотела пойти. Понимал, что всё равно куда, лишь бы с ним. Они двинулись мимо прогульщиков в школьной форме, курящих с независимым видом за кассами кинотеатра «Россия». Прошли раскисшим аппендиксом Страстного бульвара, пиная ногами потёртую жестянку из-под монпансье. Вышли на Петровский, уже хрустя вафельными стаканчиками с мороженым. Двинулись вниз, перепрыгивая через лужи и, словно в детстве, саля друг друга: «Ты водишь! Догоняй!» И бежали по гаревой аллее бульвара. И дышали весной, друг другом и Москвой. А Москва беззастенчиво пахла отопревшей после снега и льда землёй. Гудела, звенела, шуршала, чирикала. Дворники увлечённо громыхали железными баками на колёсиках мимо мусорных куч. Полупустые троллейбусы с уханьем разбегались под горку вдоль двухэтажных, словно стыдливо присевших на корточки домов. Трамвай лихо скрежетал металлом о металл, заглатывая крючок Рождественского бульвара. Воробьи гомонливой стайкой барахтались в луже. И из какого-то в весну распахнутого окна пел свою «Элизабет» Дин Рид.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу