Вообще же старушки интереснее всех. Недавно полночи ставил временный кардиостимулятор; когда наконец все получилось, пожал руку своему помощнику, и тогда полубездыханная прежде старушка тоже протянула мне руку: «А мне?» – и крепко пожала.
Вечная присказка: «Хорошо вам говорить, Максим Александрович». На деле это значит – хорошо вам, Максим Александрович, вам не лень делать то или другое.
Роль Церкви в жизни больных и больницы ничтожна. Нет даже внешних атрибутов благочестия, вроде иконок на тумбочках. Все, однако, крещеные, у всех на шее крестики, в том числе у страшного человека по имени Ульрих. Ульрих расстрелял своими руками шестьдесят восемь человек (националистов на Украине, бандитов после амнистии 1953 года и так, «по мелочи»), водитель, ветеринар, целитель, внештатный сотрудник госбезопасности (вероятно, врет). Имеет табельное оружие, пистолет Стечкина (опять-таки, если не вранье). Удар полтонны, на днях выбил взрослому сыну передние зубы. Должен быть порядок. Порядок должен быть, а кто его не будет соблюдать, того остановим кулаком или, если понадобится, пулей. Пенсия две семьсот. Как же госбезопасность, не помогает? Нет, это добровольно. Говорить с Ульрихом страшно: того и гляди, возьмется за Стечкина. А сумасшествие (бывшая жена занимается черной магией, офис в Москве, вредит ему и все в таком духе – карма, дыхательные аппараты, магниты) – следствие совершенного зла, а не наоборот. Но такие больные – исключение, в основном люди миролюбивы.
Идиотизм власти (областной, московской) даже не обсуждается, обсуждаются только способы ее обмана. Из-за этого происходят истории, для описания которых нужен гений Петрушевской. Вот одна из них: есть распоряжение, что ампутированные конечности нельзя уничтожать (например, сжигать), а надо хоронить на кладбище. Несознательные одноногие граждане своих ампутированных ног не забирают, в результате в морге недавно скопилось семь ног. Пришлось дождаться похорон бездомного (за казенный счет и без свидетелей) и положить ему эти ноги в могилу.
Что же хорошего я вижу? Свободу помочь многим людям. Даже если помощь останется невосприня-той – дать возможность помощи. Отсутствие препятствий со стороны врачей, администрации. Хочешь палату интенсивной терапии – пожалуйста. Хочешь привозить лекарства и раздавать их – то же. Хочешь положить больного, чтобы мать-алкоголичка оставила его в покое, – клади. Помогает и отсутствие традиций. В отличие от других провинциальных городов N. не живет традициями.
Ксенофобии тоже, в общем, нет, хотя на днях пришлось содрать с двери магазина типографским способом напечатанную листовку «Сохраним N. белым городом». При том что, по моим наблюдениям, все, кто хочет что-то сделать для больницы, – приезжие. Есть большая терпимость, в том числе, увы, к совершенно нетерпимым вещам, вроде торговли героином, и совсем нет осуждения. Ясно, что москвичи воры, ну и пусть.
Есть уважение к книгам, знанию, опыту жизни в большом мире, но нет зависти. Что с того, что больные не соглашаются на операцию на сердце, – а кому ее хочется себе делать? Да тут еще областные светила объяснят, что делать ничего не надо. Каждый такой случай воспринимается как врачебная неудача, неэффективное действие, провал. Поэтому и приходится вешать дипломы на стенку, а главное – стараться, напрягаться, отдаваться разговору и вообще встрече с человеком.
Радует если еще не жажда, то уже готовность к деятельности у людей, которых недавно, казалось, остается только закопать. Еще – ощущение герметичности происходящего (все попадают в одну больницу): становится известно продолжение любой истории, что добавляет ответственности.
Есть радость встречи: недавно лечил худенькую веселенькую девяностолетнюю Александру Ивановну (отец-священник погиб в лагере, мать умерла от голода, осталась без образования, была воспитательницей в детском саду), человека, более близкого к святости, я не встречал. Говорю ей: у вас опасная болезнь (инфаркт миокарда), придется остаться в больнице. Она весело: птичий грипп, что ли?
На днях получил привет от своего прадеда, умершего вскоре после моего рождения: обратил внимание на красивое и редкое имя больной – Руфь. «Руфь-чужестранка», – сказал я ей, и она ответила: «Только один врач отметил мое имя и очень меня за него полюбил, я и дома у него бывала». Этот врач – мой прадед, после лагеря он жил на 101-м километре, до смерти – в городе N. Теперь на 101-й километр не посылают, надо об этом побеспокоиться самому.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
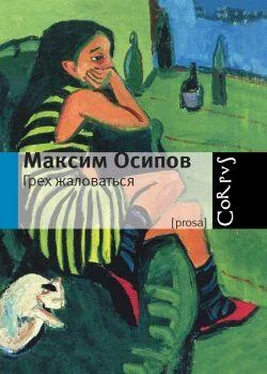


![Максим Осипов - Человек эпохи Возрождения [сборник]](/books/409687/maksim-osipov-chelovek-epohi-vozrozhdeniya-sbornik-thumb.webp)






