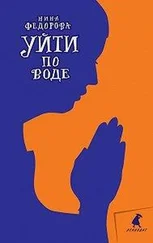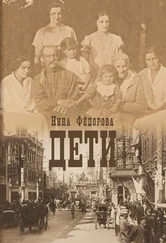Теперь, ложась в постель, он просил Аню посмотреть под кровать и потрясти штору:
— Мы знаем, что это за публика! Заберутся!
Но страхи были мимолетны, проходили и забывались. И профессор опять был тот же — умный, веселый, живой, галантный. Но он начал как-то перебрасываться с предмета на предмет в своих речах — и это казалось странным при его обычной логике. Он стал вдруг впадать в негодованием гнев по пустячному или даже несуществующему поводу. И, хотя на короткие мгновения, приступы подозрения и негодования повторялись все чаще.
Вот он стоял посреди комнаты взъерошенный, взволнованный и говорил:
— Аня, президент Рузвельт — моя последняя надежда. Америка — здоровая и благополучная страна. Движение юношества должно начаться оттуда. Но, Аня, Аня, он не отвечает на мои письма. Неужели я должен отказаться от надежды на него?
Больше никого не осталось. Что ж? Предоставим вождей их ошибкам. Я отрясаю прах с моих нот. Отныне я буду обращаться только к самым простым людям. Я выйду на площадь и там буду говорить. Это — мой долг. Как я могу молчать? Как я могу быть спокойным свидетелем зрелища, как одна часть человечества пожирает другую? Сильные съедают слабых. Каин ежеминутно убивает Авеля. Я вижу и понимаю, что человечество гибнет — я ответственен. Я не должен молчать. Аня, Аня, простая человеческая доброта могла бы спасти мир. Как я могу спокойно видеть все эти приготовления к войнам, эти армии и пушки, когда выход только в том, чтобы каждый из нас был просто честным и добрым человеком.
Он ходил по комнате в большом возбуждении,
— Я выйду на площадь. Я подойду к первому встречному, положу мою руку на его плечо и скажу: «Слушай, человек, брат мой…»
И вдруг его осенила опять какая-то идея. Он кинулся к столу и начал писать сосредоточенно и быстро. Он написал:
«Брат мой Каин! Я все еще жив, и прежде чем ты совсем покончишь со мною, выслушай меня. Ты отнял у меня все, на что я имел право: родину, дом, дитя, друзей, любимый труд. Ты осудил меня на изгнание. И когда я — полный отчаяния — покидал навеки мой дом, ты стал на пороге и проклял меня. Ты взял мою часть отцовского наследства. Я далеко теперь, но да дойдет до тебя мой голос. Брат Каин, помни, ты не будешь владеть миром после того, как покончишь со мной. Мир не будет принадлежать убийце. Родится и придет сместить тебя многоликий Сиф и возьмет наш отцовский дом для себя. Каин, ты трудился напрасно».
Он закончил и вдруг заволновался ужасно:
— Аня, Аня, кому я пишу это письмо?
— Я не знаю, — сказала она очень тихо.
— Как это так, ты не знаешь? Ты должна знать. Ты всегда должна знать, кому я пишу, кого я имею в виду.
Он заходил по комнате, в отчаянии хватаясь за голову:
— Письмо готово. Но кому послать, кому? Сталину? Гитлеру? Японскому главнокомандующему? — И вдруг успокоился: — Знаешь, Аня, пошлем всем троим?
— Не надо никому посылать, — сказала Аня, но так тихо, что он не слышал.
И, нагнув голову низко-низко над носком, она думала горько: «Как это случилось? Почему? У него был такой ясный, такой блестящий и логический ум!» — и мелкие капли слез падали на носок и там сверкали, как роса. Увидев слезы, профессор подошел, взял ее руки и поцеловал их нежно-нежно: «Не плачь, милая Анечка, не плачь».
В конце января новая жилица появилась в пансионе № 11 и принесла с собою свои радости и свои печали.
Она пришла холодным хмурым утром, когда мало кому хотелось жить. Ее сопровождал американский солдат. У нее были такие голубые сияющие глаза, такие золотые сияющие волосы, что казалось, они освещали путь перед нею. Ей нужна была комната, «самая маленькая и насколько возможно дешевле». Она ушла с Матерью наверх, а в столовой Дима остался стоять, как статуя, в безмолвном восхищении: он впервые близко увидел настоящего солдата, большого, высокого, сильного, в прекрасной солдатской одежде. Все прежние идеалы Димы: Собака, профессор, генерал с картами — потускнели перед этим веселым гигантом. Это был настоящий мужчина: он не боялся никого! Это чувствовалось, хотя и неясно, маленьким сердцем Димы. До сих пор он встречал только мужчин, перенесших страх, болезни, преследования, надломленных в своем мужском бесстрашии и человеческом достоинстве. А этот гигант был весел и, как дитя, уверен, что жить, в общем, забавно.
Дима сделал несколько шагов к нему, очень робко.
— Hello, buddy! — сказал, улыбаясь, гигант.
О чудо! Он не был горд. Он был доступен. Он снизошел до дружеских рукопожатий.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу