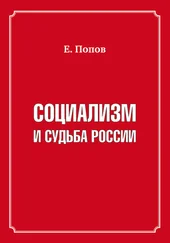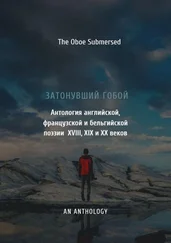Крупин вернулся в темную комнату, зашарил свободной рукой по паркету. Отыскал кварцит – до боли сжал его в руке.
Прадед был добрым. Когда его назначили главным по раскулачиванию в родном селе, он заранее приходил к жертвам и говорил: «Прячьте что можете! Мы придем завтра!» Возможно, это была только легенда. Возможно даже, Крупин придумал ее прямо сейчас. Но так хотел в нее верить – в живое, сильное.
Хотя мог ли быть добрым тот, кто отличился в Гражданской войне? Кто убивал людей из пулемета? Кто раскулачивал? Кто отбирал скотину, зерно? На это Крупин не мог ответить, но он знал, что кровь прадеда – его кровь, судьба прадеда – фрагмент судьбы всей страны; вынь кусок – и посыплется, замени – и утратится правда. Так делали – и разрушали целое. Сам Крупин был из таких. Неспособность вместить жизнь как процесс, как непрерывность мучила его последние годы, ломала, выкорчевывала из жизни. Настолько, что двадцать минут назад он хотел повеситься. Не впервые. И он ли один?
Но думал ли об этом дед, думал ли прадед? В той жизни, которая была не легче.
Крупин помнил, чем отличился дед. На Великой Отечественной войне он спас корабль, затушив пожар. Крупин помнил, чем отличился прадед. Он зачищал волжские степи от бандформирований. И наткнулся на хутор, где квартировались бандиты. Их, по легенде, было не менее десяти. Напарника прадеда убили сразу, а он выжил. И уничтожил бандитов. Стал героем. Отец Крупина уже не был таким – он слишком часто миндальничал, сомневался, но зато смог победить рак. Да, пожалуй, он тоже стал героем.
А что случилось с самим Крупиным? Почему на нем род героев прервался? Что стало с ним, подыхающим в пустой квартирке на куче тряпья? Он питался из рук тех, кто валил памятник Ленину. Ленину, за которого бились прадед и дед. И когда Крупин вспомнил панка, кувалдой разносившего памятник «на сувениры», а сам он, бездействуя, терся рядом, подтявкивая, подвывая, то понял, что сердцевина Крупиных извлечена – утоплена в бессилии и водке.
Вспоминая ту сцену, вульгарно-болезненную, Крупин презирал уже не только себя, но и тех, частью кого он стал. Порочное смирение, давно превратившееся в самоуничижение, обагрилось, прорвалось, точно плевра, и из него родилось новое – ненавидящее, требующее мести, способное на поступок.
Владимирский собор, чей вид раздражал обычно, в этот раз заставил остановиться. Крупин засмотрелся на купола, на золото на темно-синем. Когда он склонил голову, не способный в должной мере принять новое чувство, ливанул дождь. Влажно вскипел асфальт. Крупин дернулся, чтобы уйти. Мысль о пустотах квартиры, злоба, оглушившая там, потянули к Крещатику. Через тополиную аллею, через ночной дождь.
Люди Крупину не встречались, но на спуске Хмельницкого его облаяли две кудлатые псины. Шарахнувшись, Крупин почему-то вспомнил «Голубой огонек». Почуяв страх, псины залаяли громче. Но, сперва дернувшись, Крупин уже радовался, что рядом появились те, на ком можно было выместить злобу. Он схватил камень, швырнул его. Раздался вой, лай подугас. Вдохновленный, как охотник, пустивший кровь, Крупин схватил еще камень. Швырнул. Псины, завыв, убрались прочь. Крупин захохотал.
Внутри у него взрывалось и клокотало. Голод, терзавший Крупина, почти отступил. Он освободил место для ярости. Она рвалась наружу, искала выход. Крупин оглянулся. Улица стояла мертвая, в колком дожде. Тополиная аллея ползла вверх – к станции метро «Университет», к саду магнолий. Когда Крупин еще жил, он любил гулять там. Но слишком давно в саду не был.
Не найдя жертвы, промокнув, Крупин добрался до «пятачка», где еще вчера стоял памятник Ленину. Теперь от него осталось лишь основание, одно слово на нем – «ЛЕНІН». Куски, осколки – все разобрали. Бесхозными валялись только ошметки ремней, тросов. Крупин помнил, как тянули ими кварцитового Ленина вниз. Шел мокрый снег, похожий на вал жирных гусениц. Сейчас дождь замывал следы.
Крупин полез в бушлат. Достал фотографию прадеда. Она тут же намокла под декабрьским дождем. Крупин убрал ее, запомнив лицо: суровый взгляд, широкие скулы, родинка над верхней губой.
От разобранной пустоты, от стояния в одиночестве Крупин закричал. Он и не знал, что может голосить так, что в легких еще осталось столько воздуха. Размазанная по улице сырость лезла в нутро. Крупин видел себя вчерашнего, пьяного, замученного, певшего украинский гимн. И если жил Бог, то прадед и дед смотрели на Крупина тогда – и сейчас, когда он пришел на оскверненное капище отдать долги.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Евгений Попов Семнадцать о Семнадцатом [антология] обложка книги](/books/31293/evgenij-popov-semnadcat-o-semnadcatom-antologiya-cover.webp)
![Евгений Гущин - Самый черный день [антология]](/books/25443/evgenij-guchin-samyj-chernyj-den-antologiya-thumb.webp)

![Евгений Попов - Плешивый мальчик. Проза P.S. [Авторский сборник]](/books/35116/evgenij-popov-pleshivyj-malchik-proza-p-s-avtors-thumb.webp)