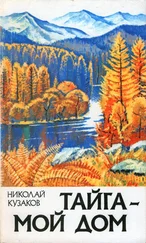Николай Шмелёв - Пашков дом
Здесь есть возможность читать онлайн «Николай Шмелёв - Пашков дом» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Пашков дом
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Пашков дом: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Пашков дом»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Пашков дом — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Пашков дом», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Но для него, для мальчишки в шестнадцать лет, разве этот страх был таким уж всепоглощающим, разве он не оставлял места ни для чего другого? Нет, этот страх был далёким, расплывчатым, он касался других — родителей, друзей родителей, соседей, — но он не касался его самого, его жизни, его мыслей, направленных в ту пору, по естественному детскому эгоизму, почти исключительно на самого себя. Этот страх не мешал ему читать, ходить в библиотеку, бегать на каток, нести в классе любую ахинею, какая только взбредёт в голову, не важно, про политику или про что другое — в крайнем случае, двойка за ответ и больше ничего, дружить с товарищами, болеть за «Спартак»… И разве он, страх, мешал ему любить — уже любить! — эту девочку, которая, как ангел с небес, вдруг возникла перед ним и отныне и навсегда, в этом не могло быть никакого сомнения, вошла в его жизнь?
Каждый вечер теперь, после звонка, они уходили из библиотеки вместе, бродили по набережным, по улицам, бродили долго, даже если шёл дождь или мокрый снег — кто когда в их годы обращал внимание на такую ерунду? Он нёс, перекинув через плечо, её кожаную планшетку с тетрадками, изредка она брала его под руку, и тогда ему приходилось приноравливаться к её шагу, это было трудно, непривычно, но это было восхитительно, голова его кружилась, сердце замирало, и он мысленно молил её не убирать руку, повисеть ещё немного у него на локте — ну, вот до того угла, до того серого дома, а если можно, то и дальше, хотя бы до конца улицы, вот до того перекрёстка, где горят сразу три фонаря… Каждое прикосновение её плеча, её бедра — случайное или нет, не всё ли равно? — током пронизывало всё его существо, он замолкал, терялся, потрясённый этим новым для себя ощущением, и всякий раз ему нужно было время, чтобы проглотить неизвестно откуда взявшийся комок в горле, а когда потом, краснея и запинаясь, он опять начинал что-то бормотать — что-то в высшей степени невнятное и невразумительное, нужное только, чтобы не молчать, — она незаметно вытаскивала у него руку из-под локтя и чуть-чуть отстранялась: видимо, она уже и тогда вполне понимала это его состояние и не хотела его зря дразнить.
Конечно, в каком-то смысле он был взрослее её, но именно в каком-то смысле: больше думал, больше знал, больше читал, но, как довольно скоро обнаружилось, это было далеко не всё. В её взгляде, брошенном вскользь на кого-нибудь встречного — это мог быть не только юноша, но и человек уже в летах, — вдруг вспыхнуло что-то, сверкнуло и сразу потухло, прикрытое опустившимися вниз ресницами; в повороте её головы, когда она проходила мимо большого, в рост, зеркала, висевшего в вестибюле библиотеки; в той мягкой, ускользающей лжи, на которой он её иногда ловил, когда, случалось, не очень ловко пытался у неё узнать, где она была вчера, почему не пришла, что она делала и вообще чем она жила без него, — лжи не ради лжи, а затем, чтобы пощадить, не огорчать его; в её манере подавать руку на прощанье: маленькая леди, а он её паж, — во всём этом чем дальше, тем больше ему чудилось какое-то снисхождение к нему, терпеливая благожелательность взрослого к симпатичному, но беспокойному и, что греха таить, иногда даже назойливому подростку, от которого, может быть, и надо бы отделаться, пока не поздно, но уж больно не хочется его обижать… Иногда в знак протеста он пытался хмурить брови, напускать на себя значительность, даже суровость — это, однако, не помогало никак, наоборот, только вызывало у неё улыбку, а то и смех, и тогда ему делалось стыдно за самого себя, он замолкал, отдалялся от неё, и так продолжалось до тех пор, пока она, наскучив его горестным видом, не дергала его за рукав и не прижималась к нему:
— Перестань. Перестань дуться. Ты большой, нескладный и очень милый ребёнок. Мне хорошо с тобой…
Однажды — это было уже весной — она пригласила его к себе: он кое-что понимал в марках, и она давно хотела показать ему свою коллекцию, оставшуюся ещё от родителей. И мать, и отец её исчезли перед самой войной, её вырастила тётка, иногда Лёля вспоминала про них, но как-то робко, нехотя, всё больше по каким-то крохотным детским пустякам, вдруг замолкая на полуслове, как будто, чуть дав волю памяти, она тут же наталкивалась на некий невидимый барьер, за которым о них уже нельзя было больше говорить, — нет их, и всё.
Она жила в большой коммунальной квартире с длинным коридором, уставленным рассохшимися шкафами и всякой рухлядью, со сводчатым потолком, прокопчёнными стенами, единственной тусклой лампочкой над головой и тяжёлым, застойным запахом общей кухни, который нельзя передать никакими словами, но который до самой своей смерти будет помнить каждый, кто когда-нибудь в таких квартирах был и тем более жил. Чтобы попасть к ней в комнату, надо было пройти весь этот коридор из конца в конец — тем поразительнее было то, что он увидел, когда она, пропустив его немного вперёд, открыла перед ним дверь, снаружи такую же обшарпанную, как и те, мимо которых он только что проходил.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Пашков дом»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Пашков дом» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Пашков дом» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.