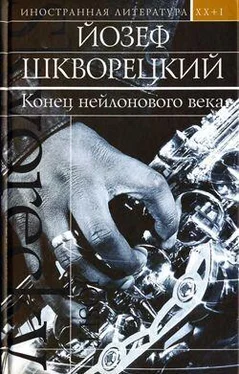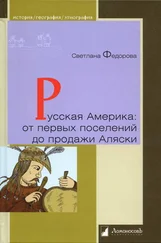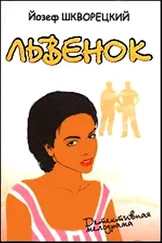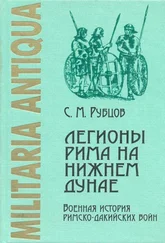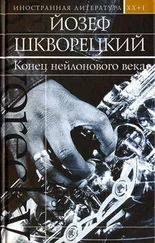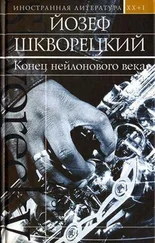– Ты думаешь? – начал он. – А к тому же и умна. Я тебя с ней должен познакомить.
– Гм, – ответила Ирена, глядя на пани Мартинесову через плечо.
– Знает Сартра и Камю не хуже профессора Черны, – отчаянно лгал он.
– Да?
– И поет сенсационно.
Ирена промолчала. Он попробовал продолжить:
– На факультете она – перед замужеством – занималась сравнительным религиоведением.
Наконец Ирену прорвало:
– Такая уж она умница?
– Конечно.
– А по-моему, дура, – резко произнесла Ирена, но в голосе ее сквозила нотка интеллектуальной неполноценности. Его мгновенно охватила нежность, к которой, пожалуй, весь этот треп изначально вел.
– Раз ты так думаешь… Куда ей, конечно, до тебя!
– Ну да, если не шутишь.
– Нет-нет, я всерьез.
– Ты хочешь мне польстить. Я тебя знаю.
– Нет, я в самом деле так думаю, Ирена.
С минуту она молчала, лишь ядовитой зеленью глаз следила за движениями Эвы. Потом спросила:
– Это ее муж?
– Да, сеньор Энрике Мартинес.
Она молчала, и он добавил:
– Весной они едут в Мехико.
Снова молчание.
– У его деда – этого Мартинеса – там хасиенда. Эва уже получила от него посылку с мексиканским национальным костюмом.
Без ответа.
– Он ей очень идет.
– Знаешь что? – сказала она вдруг, и он почувствовал, что сбивается с танцевального ритма. Она посмотрела ему в глаза и произнесла тоном маленькой девочки: – Пусть ваша Эва поцелует меня в попку.
Профессор долго пытался утопить свой сплин в танцевальном вихре, последовательно сыграть роль потерпевшего катастрофу, обреченного на смерть в семь утра следующего дня, но этот дурацкий, мучительный факт торчал в черепе словно ввинченный. Его привлекла какая-то симпатичная одинокая девушка, вынырнувшая из-за пальмы в фойе; но потом он подумал, что возможный флирт не может закончиться свиданием в понедельник, в четыре, у Народного театра, и он почувствовал себя так, словно весь этот хоровод, вся эта праздничная толпа в мраморном коридоре находятся не в нынешней Праге, а в Праге его костелецких видений, из которых он только что вышел в сокрушительную реальность черных зимних утр, когда вместе с другими вынужден был спешить на авиационный завод, где они исполняли противную четырнадцатичасовую повинность по мобилизационному закону.
Но у принудительной работы на заводе был «свет в конце тоннеля» – скорый конец войны. А эта противная повинность неопределенного мирного времени, что начнется у него с понедельника, – иное и гораздо худшее рабство, крепостничество без надежды на сладкую свободу свободы. Останется лишь одна свобода. Та, которая заключена в «осознанной необходимости».
Удачно закрученное иезуитское определение снова возбудило в нем злость, но против него он был бессилен. Оно помогло ему сдать выпускные экзамены на факультете, который за одну ночь стал кузницей марксизма; но что, собственно, в «осознанной необходимости» марксистского? Что в такой вот свободе вдохновляющего, когда это лишь прогрессивно выраженный его собственный, безошибочный реакционный принцип: когда нужно выживать, делай жизнь приключением. Ограниченная необходимостью свобода, неотличимая от приключения четырнадцатилетнего мальчишки, начатого от безысходности? Ты попался, Монти Бартош, с яростью убеждал он себя, и чем больше будешь трепыхаться, тем сильнее и омерзительнее будешь чувствовать, что попался. Пойми, что с этим ничего не поделаешь, Эпиктет [12]несчастный, пойми эту необходимость, пойми наконец, дурачок, что хотя по закону здесь есть право на труд, но это коммунизм, и право превращается в повинность; пойми это, дорогой, – и ты свободен.
Именно это остается человеку – и так всегда. У тех, кто об этой пикантной форме свободы больше всех говорит на семинарах и лекциях, для себя есть другая, недиалектическая – жить по хотению, по своему хотению, ибо сейчас все идет так, как хочется им, а не ему. Те, кто удовлетворен необходимостью естественных законов, приведших эту страну к социалистическому строю, сейчас в этом строе – на ведущих местах, и для Мартинов Бартошей они разрабатывают сверх того еще и специальные необходимости законных предписаний и распоряжений. И обе эти вещи – строй внешнего мира и строй его личной ситуации в нем – должны сливаться в таких предписаниях в единое радостное понятие, являясь источником извечных человеческих мучений, а понятие это облекается в костюмы иной, каждый раз новой, всеобще обязательной философии. И ничего не остается, как только щелкнуть каблуками и уехать в Гацашпрндовичи. Свобода – осознанная необходимость. Да, Монти Бартош. Именно так это можно выразить: главное не то, что тебя ждет, а то, что ты с этим сделаешь; но это уже не марксизм, а гнусный экзистенциализм. Можешь повеситься, можешь щелкнуть каблуками. В зависимости от того, марксист ты или гнусный экзистенциалист. В этом тебе предоставлена абсолютная свобода.
Читать дальше