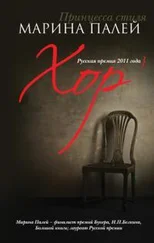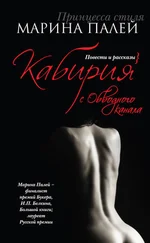За диплом я, кстати, огреб четверку – хотя претендовал на большее… Тема моей работы была, конечно же, связана с Пушкиным… Витиеватые выступления оппонентов, завороженных, как это бывает у русских, своим велеречивым, обильным, пустопорожним камланием, не прояснили для меня ни одной из причин моего поражения. Я собирался в аспирантуру, теперь расхотел.
И вот… нет, не может быть… Я увидел на полях диплома словно бы пометки… египетские значки какие-то… раньше их не было… или я не замечал? Нет, они, конечно же, были, но, набросанные химическим карандашом, оставались до срока почти непроявленными (ну да, латентными) – пока стихийный алхимик Ванька своей обильной уриной не сделал их наконец для меня визуально убедительными. Итак, под влиянием «таинственной влаги» на полях моего диплома проступили, нанесенные ядовитым химическим карандашом, следующие жестокосердные письмена:
«Не пора ли предоставить Пушкина русским пушкиноведам? Доколе…» (далее неразборчиво) .
«Ну почему вы не выбрали тему по Элиоту, Китсу, Байрону – да мало ли поэтов на свете? Ну зачем вы все к нашему Пушкину при…» (нрзб)
«Вы полагаете, ваш цвет кожи, равно как иностранное происхождение, дают вам право…»
«Неужели на вашей родине нет своих собственных национальных поэ…»
«Чтобы получить высокое право писать о Пу…, надо сначала пройти окопы Сталингра…»
Господи боже, как безнадежно я плакал! Зачем ты, Ванька, приобщил меня к знанию, соприкоснувшись с которым даже единожды, мне уже навсегда будет тошно жить в любой, совершенно без разницы в какой, точке планеты!
Безотчетно ища утешения, я потянулся к рукописям. Мне вспомнилось, как, заходя в редакции, я всегда бывал ободрен и обласкан, даже чуточку подобострастно обласкан: хоть и черный, а иностранец, в Вашингтоне учился, знает языки… И вот всегда было так: задушевный чай, черствые, зато вдвойне хрусткие сушки, доверительные вопросы: а у вас там, в Танзании, много ли ядовитых скорпионов? (женщины); а сафари – это, в принципе, дорого? (мужчины); ой, а львы у вас в деревнях на человека нападают? (женщины); а обрядовый каннибализм встречается? (мужчины); а… а право первой брачной ночи для вождя? (женщины); а насильственное лишение клитора? (женщины); а внутриплеменной промискуитет? (женщины); а вот за инцест наказывают? (женщины); а каковы разновидности смертной казни? (мужчины, женщины) – ну и т. д.
Но… Ванькина моча (алхимическая влага) таинственным образом проявила скрытые, истинные интенции моих старших коллег… Чувствуя себя Жаном-Франсуа Шампольоном, я жадно бросился разбирать кривобокие редакторские иероглифы. На полях рукописей «новые смыслы» оказались еще похлеще, чем в дипломе: одни редакторы (в отличие от профессоров, не ограниченные даже формальными рамками процедуры) шлифовали на мне, безгласном оселке, свои мертвые графоманские косы; другие же, пользуясь невидимостью химического карандаша, непринужденно выплескивали «темное бессознательное»:
«Эти рифмованные строчки не имеют никакого, я прибегну к метафоре, поэтического припека… хотя… при определенных условиях…» («Заря юности»);
«…нам явлена как бы вулканическая лава, уже окончательно застывшая в своем художественном становлении, – лава, которая словно обозревает сама себя, не оставляя, однако, читателю ни одного шанса <���….>» («Юность зари»);
«Автор – просто подонок!» («Ноябрь»);
«Где это автор видел, чтобы мужские ноги переплетались с женскими?! Это же вам не вареные макароны в конце-то концов!» («Вольная сторона»);
«От ваших описаний природы я резко траванулся. Тянет блевать». («Забрало Родины»);
«Автор – ублюдок, мерзавец и, сто процентов, гомосексуалист!» («Ноябрь»);
«Может, у вас там, в Африке, это нормально, но у нас…» («Вольная сторона»).
Ну и так далее.
Да. Недаром говаривал великий Ф. Бэкон: «Знание – сила; сила – знание».
Я размахнулся изо всей силы – и вышиб оконное стекло вместе с рамой.
Ujiji
Назавтра, как мы договорились, я ждал Ваньку возле кафе «ЖАН». Я с ума сходил от этого визита к ректору и обязательно должен был знать, как разрешилась эта ситуация; после чего меня ожидала беготня по Столице, куча неподъемных дел.
…На самом деле это кафе, чтобы привлечь студентов РИИСа, называлось «АНЖАНБЕМАН», но целыми на вывеске оставались, как правило, только три буквы; кличка уже прилепилась – да и вообще, назови это кафе как угодно, оно, расположенное на Большой Бронной, прямо напротив «альмы матер», все равно оставалось бы практически Главным ее корпусом – и посещалось бы, как всегда и было, гораздо большим количеством служителей словесности, чем лекционные залы.
Читать дальше