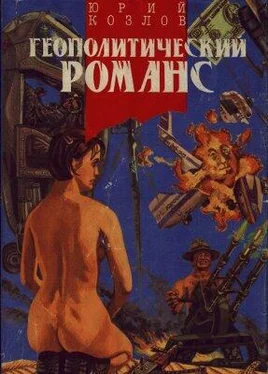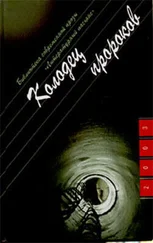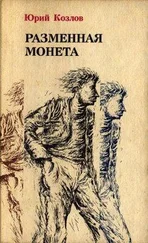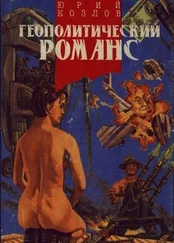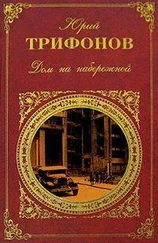Весной вода заливала весь участок вместе с оврагом, и смотреть, как идёт «строительство», приходилось с сухого пригорка издали. Летом вода в котловане изумрудно цвела, в ней угадывалась простейшая жизнь. Осенью по поверхности плавали флотилии красных и жёлтых листьев, подмёрзшие берега хранили слепки птичьих лап и звериных копыт. Зимой все шесть соток представляли из себя плохо залитый шишковатый неосвещённый (если только луной) каток. «Может, что-то изменилось в дачной политике? — спросила однажды мать. — И мы уже не садоводы, а рыбоводы? Вдруг нам надо разводить карпов, а мы не знаем?» На других участках дела обстояли примерно так же. Только светился трёхэтажный с башнями дворец председателя садоводческого товарищества, которое так и называлось «Товарищ».
Было время, снимали халупу в местечке с социалистическим названием «Семьдесят второй километр».
Но в этом году съёмные переговоры закончились неудачей. Отец, как чувствовал, не хотел звонить таксисту, владельцу этой самой халупы. Позвонил только после того, как мать заявила, что, если он и сегодня не позвонит, она пойдёт и отдастся таксисту прямо в машине. Леона как раз выписали из больницы. Он никуда не выходил, сидел дома с головой, обмотанной бинтами, как янычар в чалме, с ноющим, залепленным мазью, заклеенным специальной светонепроницаемой нашлёпкой глазом. Потому и слышал разговор. Таксист (как выяснилось, уже и не таксист, а помощник крупье в казино «Нимфа») запросил сумму в… конвертируемой валюте. «Увы, Коленька, — даже обрадовался, что переговоры оказались короткими, отец, — мы люди неконвертируемые. Что? Да, Карл Маркс написал «Капитал», но это не про то, как сделать капитал, а как сделать, чтобы никто никакого капитала не сделал. В особенности помощник крупье из казино. Да, Коленька, живу по Марксу. Нет, боюсь, поздновато мне разносить напитки играющим, хотя, конечно, всё в жизни может случиться. От сумы, тюрьмы, подноса с напитками не зарекаюсь».
Раньше каждое лето Леон с матерью или отцом, а то и все вместе по месяцу живали в домах отдыха Академии наук. Отец покупал путёвки через свой институт. Он и в этом году подал заявление. Но отказали. «Они перестали считать научный коммунизм наукой, — с грустью констатировал отец. — Отныне придётся заниматься научным коммунизмом без летнего отдыха». — «Неужели никак нельзя с отдыхом? — вздохнула мать. — Ещё в прошлом году можно было». — «Всё течёт, всё меняется, — процитировал отец, надо думать, знавшего толк в отдыхе Гераклита, — в прошлом да, в этом нет. Куда, кстати, мы в прошлом году ездили? Неужели в Литву?» — «Там были сложности с компотом, — напомнила мать. — Всем, даже неграм, консервированный, русским — из сухофруктов. И с лампочками напряжёнка. Ты ещё в сортире вывинтил, чтобы мы могли перед сном почитать». — «Мелочной народец, — согласился отец, — но в этом году Литва нам не светит». — «А Подмосковье?» — «Глухо. Я узнавал. Даже этого старого пня, нашего завкафедрой отфутболили». — «Но ведь надо же его куда-то везти? — с жалостью и ужасом посмотрела на Леона мать. Она была уверена, раз у него забинтована голова, он ничего не слышит. Только страшно смотрит одним глазом. — Не держать же его всё лето с простреленной башкой в городе?»
Тогда-то и вспомнили про новоявленного фермера-арендатора дядю Петю из деревни Зайцы Куньинского района Псковской области.
Отыскали письмо.
Отец внимательно изучил тетрадный, исписанный аккуратным — буква к букве — почерком листок.
Леон ожидал, что он выскажется по сути письма, отец же пустился в сомнительные графологические изыскания.
По его мнению, у дяди Пети был «неразработанный» почерк. Так пишут люди из народа, для большинства из которых время писания навсегда заканчивается со школой. Вот они до старости и пишут, как школьники.
Если же человек из народа вдруг увлечётся кляузами, доносами, перепиской с официальными инстанциями, апелляциями, поисками правды (по отцу всё это находилось в одном ряду), почерк его разрушается, теряет чистые первозданные линии, приобретает размашистую шизоидную мерзость.
— Что удивительно, — продолжил отец, — человек при этом не становится ни лучше, ни грамотнее. А почерк портится.
Леон и мать переглянулись.
— Пете теперь придётся много писать, — заключил отец. — Гораздо больше, чем раньше.
Некоторое время Леон и мать молчали. Мысль отца была слишком затейлива, чтобы вот так сразу её постигнуть.
— Когда неприспособленному, с девственным, замороженным алкоголем разумом человеку приходится много писать, излагать на бумаге заявления и просьбы, — снисходительно разъяснил отец, — он может сойти с ума! Ты там присматривай за дядькой! — весело подмигнул Леону.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу