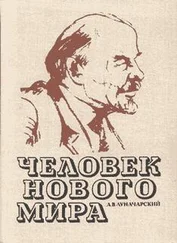Как в детстве в школе, он почти кубарем скатился вниз по лестнице и, странное дело, не ощутил при этом ни боли, ни одышки. Он бежал по переулкам по направлению к Садовому кольцу и сам этому непрестанно удивлялся. На Валовой дядя Митя на ходу вскочил в прицепной вагон «букашки». Он доехал до Зубовской и там, снова почти бегом, добрался до дома.
— Что с тобой? — перепугалась мать, увидев его бледное лицо и слипшиеся от пота волосы. Но дядя ее успокоил, влез на качающийся стул и с напряжением снял со шкафа аккордеон, без движения пролежавший там почти год. Возле Померанцева переулка дядя нанял такси — черную «эмку» с шашечками по всему борту. Когда приехали на Малую Полянку, он в растерянности и нарастающем страхе обшарил все карманы и счастливо сам себе улыбнулся, когда набрались даже чаевые. Правда, мелочью и почти медью, но бог с ними. С остановками и передышками по крутой здешней лестнице дядя добрался до квартиры, где шла свадьба. Дверь была незаперта, по-видимому, гости уже выбегали на улицу покурить и проветриться, выяснить отношения…
Прихода дяди никто не заметил, как, вероятно, никто но заметил и его ухода. Он был рад этому, сбросил в общую кучу пальто и шапку и присел на сундук отдышаться. Из-за высоких двустворчатых дверей большой комнаты доносилось гудение голосов — ни смеха, пи музыки не было слышно, только голоса, ровные, однотонные, праздник, несомненно, зашел в тупик.
Дядя Митя вытащил из футляра свой прославленный «хоннер» и, закинув за плечо ремень взял инструмент, что называется, на изготовку. Аккордеон не был сейчас ему тяжел, как дитя не бывает в тягость материнским рукам. Напротив, ощутимая, полная потаенных звуков весомость аккордеона бодрила и внушала уверенность. Так внушает уверенность литая тяжесть рукоятки пистолета — оружие не может быть легковесным, это дядя знал по опыту. Он автоматически, вовсе не задумываясь над этим жестом, достал из кармана брюк железную редкую расческу и провел ею по волосам. Все — занавес раскрылся, и дядя Митя сделал шаг из-за кулис. Он толкнул ногою дверь в одновременно, растянув мехи, пробежал пальцами по басам. Так было надо. Сначала только аккорды, только стоккато, только ритм, который должен выбить людей из душевной апатии, из безмятежной и сытой внутренней дремоты. А теперь, когда вытянулись безвольно расслабленные спины, когда в глазах, затуманенных хмелем и закуской, появились живые блики, когда подошвы, помимо воли хозяев, сами принялись отстукивать такт, теперь срочно необходимо выдать проигрыш с затяжкой, с лирическим отступлением, от которого заходнтся сердце, и сладкая тоска теснит грудь, и хочется сделать что-нибудь необычное, удалое — выпить залпом, рвануть на груди рубаху, забыть о всех мелочных расчетах своей будничной жизни — пропади все пропадом!
«До-сви-данья, — пел дядя, — путь мы проделали весь! До-сви-данья, делать нам нечего здесь!»
Это была «Розамунда», трофейная «Розамунда», которую немецкие солдаты любили пиликать на своих дурацких губных гармошках и которую взяли с бою, вырвали у растерявшегося противника, словно пистолет из кобуры, и мгновенно переложили на свой лад, добавив в эти немного механические, как в музыкальном ящике, немецкие ритмы, свою особую, московскую, питерскую, одесскую живую душу.
«В дорогу, в дорогу, осталось нам немного, мы едем к нашим женам, любимым, знакомым…»
Дядя Митя слышал, что голос его звучит легко и чисто. У него ничего не болело, и даже мысль о боли была ему теперь смешна, он был абсолютно здоров, как до войны, когда стоял на сцене клуба «Каучук» и сознавал, что от одного его слова или движения зал надорвется от хохота.
«Мы будем галстуки с тобой носить. Без увольнительной в кино ходить. Мы будем петь и танцевать и никому не козырять!»
Ах, как пел эту песню тот томительный, медленный и хмельной поезд, которым он возвращался домой! Как беззаботны они тогда были и как верили наивным и безусловным обещаниям песни. Обещаниям счастья.
В какой уже раз дядя поймал себя на чувстве, которое было, очевидно, явным признаком артистизма его натуры. Всегда во время успеха, в тот момент, когда он овладевал аудиторией, ее духом, и настроением, и поведением, люди, внимающие ему, начинали ему необыкновенно нравиться. Это и впрямь говорило о щедром и нерасчетливом добродушии, осознавать которое в себе чрезвычайно приятно. Тем более что рождается оно в результате творчества. Даже мать жениха, с ее ноющими, кладбищенскими интонациями не была ему теперь так уж противна. Даже жених Коля неожиданно оказался вполне симпатичным парнем с круглым губастым лицом, мотающимся из стороны в сторону в такт музыке. Лена сделалась почти красавицей, и беременность вдруг пошла ей, придала ее угловатому девчоночьему телу прелестную женскую плавность. А самое главное, с лица ее исчезло выражение боязливой неуверенности и зависимости, дядя знал уже, что лучшие от них средства — это счастье, удача, хотя бы мгновение радости.
Читать дальше